Карл маркс о религии: Марксистская трактовка религии
Содержание
Марксистская трактовка религии
Марксистская трактовка религии отлична от всех прочих, ей предшествовавших, тем, что обоснована она при помощи диалектического метода и в контексте материалистического понимания общества. Диалектический метод, как известно, был воспринят К. Марксом от Г. В. Ф. Гегеля, но перевернут при этом с головы на ноги, что и позволило обнаружить под скрывавшей его мистической оболочкой рациональное зерно. Материалистическое же восприятие истории и современности дало возможность рассматривать религию во взаимосвязи с экономическими и прочими структурами, образующими основу всякого общества.
Религия в марксистском понимании – общественный компонент, зависящий от других общественных явлений. Во введении «К критике гегелевской философии права» Маркс так обозначил социальные причины существования религии и ее общественную природу: религия – «превратное мировоззрение»; ее порождает «превратный мир»; она – «дух бездушных порядков»[1]. В. И. Ленин ввел в научный обиход термин «социальные корни религии», обозначив им совокупность причин и зависимостей, вызывающих к жизни эту форму общественного сознания.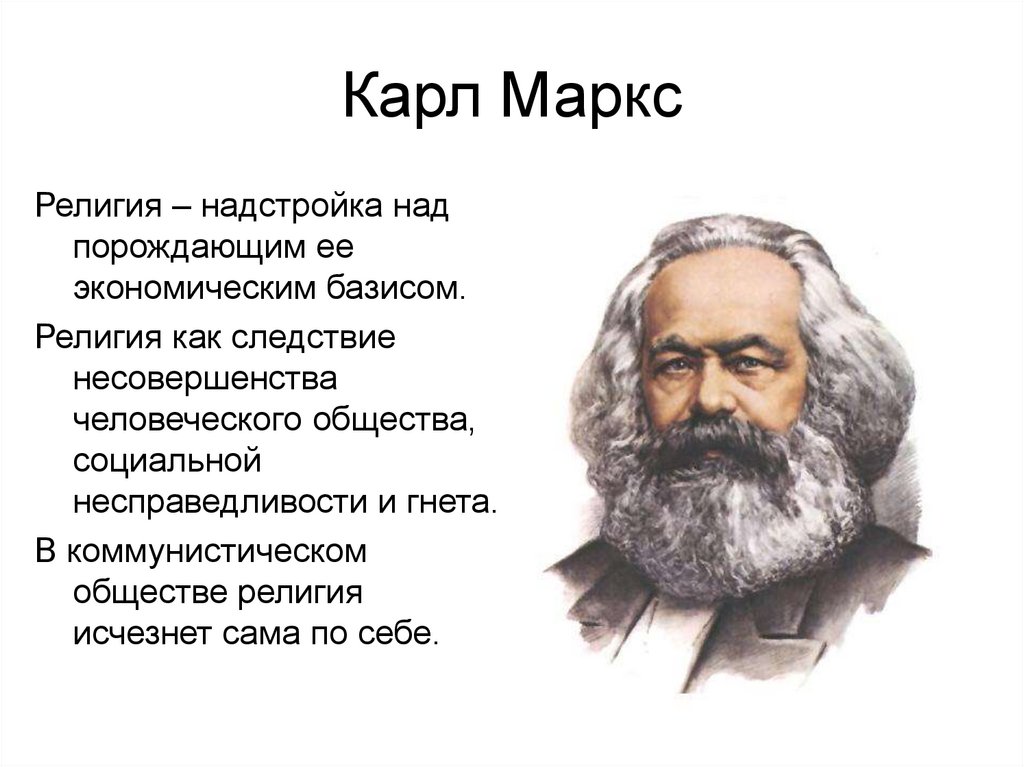 Фантастическим отражением этих внешних сил, подчиняющих себе повседневную жизнь человека, и является религия. «В начале истории, – писал Ф. Энгельс, – объектами этого отражения являются прежде всего силы природы… Но вскоре, наряду с силами природы, вступают в действие также и общественные силы, – силы, которые противостоят человеку в качестве столь же чуждых и первоначально столь же необъяснимых для него, как и силы природы… Фантастические образы… приобретают теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил»[2].
Фантастическим отражением этих внешних сил, подчиняющих себе повседневную жизнь человека, и является религия. «В начале истории, – писал Ф. Энгельс, – объектами этого отражения являются прежде всего силы природы… Но вскоре, наряду с силами природы, вступают в действие также и общественные силы, – силы, которые противостоят человеку в качестве столь же чуждых и первоначально столь же необъяснимых для него, как и силы природы… Фантастические образы… приобретают теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил»[2].
Уже на ранних стадиях общественного развития силы природы не в равной степени подчинялись производственным процессам. Неоднозначно была представлена здесь и религия. Как показывают этнографические исследования, осуществляемые среди различных народностей, отставших в своем историческом развитии, не вышедших из стадии первобытности или во всяком случае недалеко ушедших от этой стадии, религия существует там, где производство сложно, не подкреплено достаточным опытом, сопряжено с опасностью, не сулит твердой уверенности в успехе. Если же производственный процесс дает надежный результат, религиозные представления отсутствуют, они не нужны. И на последующих этапах общественного развития, там, где хозяйственная деятельность неспособна исключить неблагоприятные воздействия природных стихий, она дополняется культом святых, покровительствующих ей.
Если же производственный процесс дает надежный результат, религиозные представления отсутствуют, они не нужны. И на последующих этапах общественного развития, там, где хозяйственная деятельность неспособна исключить неблагоприятные воздействия природных стихий, она дополняется культом святых, покровительствующих ей.
В. И. Ленин писал о том, что бессилие классов, подвергающихся эксплуатации, так же неизбежно, как бессилие человека в борьбе с природой, порождает религию, что в современном мире силы капитализма повседневно причиняют трудовым массам в тысячу раз больше различного рода бед, чем даже такие явления, как войны и землетрясения. Слепая сила капитала несет с собой «внезапное», «неожиданное», «случайное» разорение, гибель. «…Вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист…»[3]
Вместе с подрывом этих корней сдает позиции и сама религия. В Советском Союзе, других социалистических странах, как показали проводившиеся социологические исследования, религиозность падала. Ныне в церковных и некоторых других изданиях процесс этот признается, но ему дается произвольная интерпретация. Сокращение в то время религиозности объясняется давлением на религию, мерами административного характера, направленными против нее. Меры такого рода действительно давали о себе знать. Но они были способны произвести эффект иного рода, чем тот, на который рассчитывали их организаторы. Ф. Энгельс писал, что «преследования – наилучшее средство укрепить нежелательные убеждения», что единственная услуга, которую могут оказать религии ее оппоненты, – «это провозгласить атеизм принудительным символом веры»[4]. Несмотря на подобные эксцессы, религиозность сокращалась вследствие иных причин, прежде всего – изменения социальной обстановки, что постепенно устраняло востребованность религии обществом.
Ныне в церковных и некоторых других изданиях процесс этот признается, но ему дается произвольная интерпретация. Сокращение в то время религиозности объясняется давлением на религию, мерами административного характера, направленными против нее. Меры такого рода действительно давали о себе знать. Но они были способны произвести эффект иного рода, чем тот, на который рассчитывали их организаторы. Ф. Энгельс писал, что «преследования – наилучшее средство укрепить нежелательные убеждения», что единственная услуга, которую могут оказать религии ее оппоненты, – «это провозгласить атеизм принудительным символом веры»[4]. Несмотря на подобные эксцессы, религиозность сокращалась вследствие иных причин, прежде всего – изменения социальной обстановки, что постепенно устраняло востребованность религии обществом.
Рост в нашей стране в течение последних десятилетий религиозности и клерикализация общественной жизни – следствие не какого-то «возрождения», а, напротив, социального кризиса, отхода от принципа социальной справедливости. Явление это не позитивного, а негативного свойства.
Явление это не позитивного, а негативного свойства.
Ослабление религиозности не чуждо и некоторым эпизодам, которыми располагает история более отдаленного прошлого. Признаки секуляризации становятся ощутимыми, когда существующий строй, подкрепленный религией, все более утрачивает свои возможности, историческая перспектива обнаруживает нечто иное, а силы, направленные на сокрушение имеющихся налицо порядков, крепнут и имеют основания надеяться на успех.
Дала о себе знать секуляризация во время первой в истории буржуазной революции, которую Энгельс определял как «революцию XVI в.», как «революцию 1525 года». Хотя она и потерпела поражение, шансы на победу у нее были, какое-то время она шла на подъем и вселяла в ее участников оптимизм. Радикальное начало в революции символизировал собой Т. Мюнцер, идеолог одной из наиболее значительных групп, принимавших в ней участие, – крестьянско-плебейской. Его мировоззренческие установки, отражавшие идейный настрой этой группы, Энгельс характеризовал следующим образом: «Его теолого-философские доктрины были направлены против всех основных догматов не только католицизма, но и христианства вообще.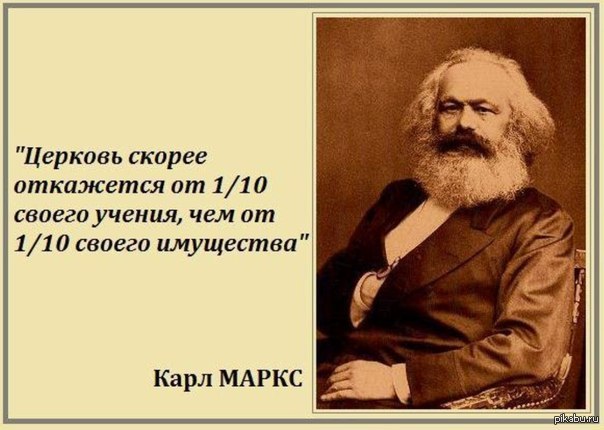 В христианской форме он проповедовал пантеизм… местами соприкасающийся даже с атеизмом… Религиозная философия Мюнцера приближалась к ате-изму…»[5]
В христианской форме он проповедовал пантеизм… местами соприкасающийся даже с атеизмом… Религиозная философия Мюнцера приближалась к ате-изму…»[5]
Откровение и святой дух для него – это наш разум. Рай надо искать не на небе, а на земле, стремиться установить его здесь. Силы зла – не что иное, как дурные страсти и наклонности людей. Христос – не сверхъестественное существо, но человек, пророк, учитель. Энгельс пишет, что свои взгляды «Мюнцер проповедовал, большей частью прикрывая их той же самой христианской фразеологией, которой долгое время должна была прикрываться и новейшая философия. Но основная архиеретическая мысль повсюду отчетливо выступает в его произведениях, и мы видим, что он придавал этому библейскому покрову гораздо меньшее значение, чем многие ученики Гегеля в новейшее время. А между тем современную философию отделяют от Мюнцера целых три столетия»[6].
Кризис религии и отход от нее отчетливо обнаружился в конце XVIII в., во времена Французской революции.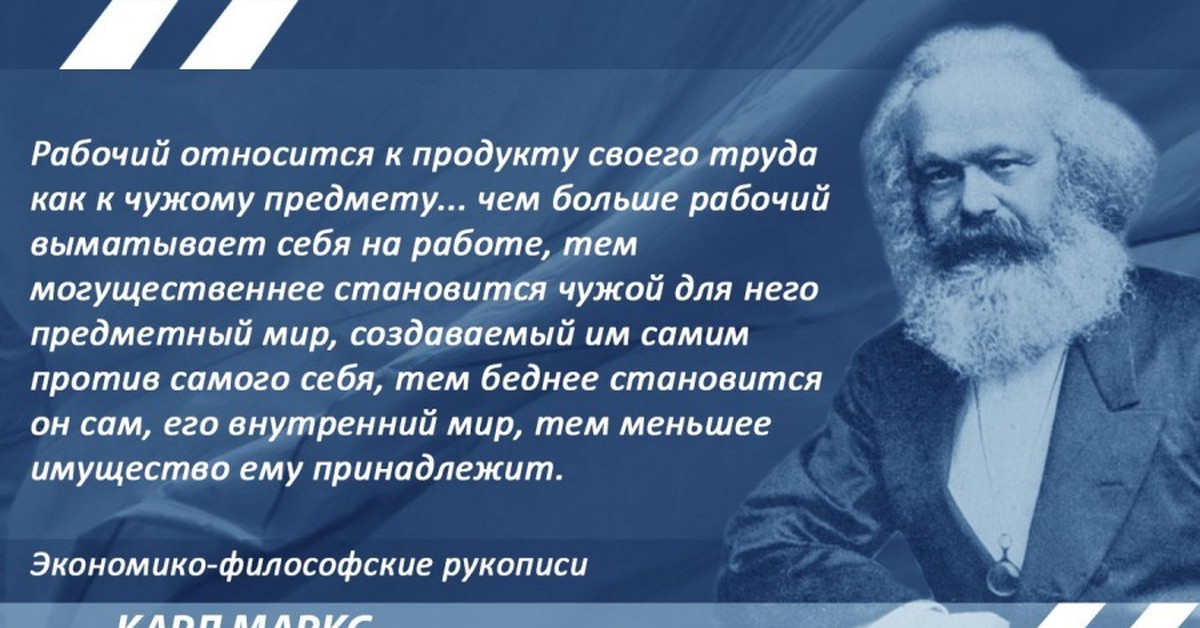 По словам Энгельса, «во Франции между 1793 и 1798 гг. христианская религия действительно исчезла до такой степени, что самому Наполеону не без сопротивления и не без труда удалось ввести ее снова»[7]. По завершении революции, которая по природе своей являлась буржуазной, религия, пережившая стабилизацию и реабилитацию, нашла свое место и в новом обществе, но все же уровень религиозности оказался более низким, чем тот, который был свойствен французскому обществу перед 1789 г.
По словам Энгельса, «во Франции между 1793 и 1798 гг. христианская религия действительно исчезла до такой степени, что самому Наполеону не без сопротивления и не без труда удалось ввести ее снова»[7]. По завершении революции, которая по природе своей являлась буржуазной, религия, пережившая стабилизацию и реабилитацию, нашла свое место и в новом обществе, но все же уровень религиозности оказался более низким, чем тот, который был свойствен французскому обществу перед 1789 г.
Снижение влияния религии и обращение к мировоззренческим нормам, ей противоположным, были характерны для русского общественного сознания в начале XX в. Процесс этот сопутствовал предреволюционным и революционным ситуациям, первой русской революции, надвигавшимся событиям 1917 г., и затронул он не только интеллигенцию, но также рабочих и крестьян, став одной из предпосылок массового атеизма после социалистической революции.
Функциональную значимость религии Маркс определял следующим образом: она «есть опиум народа»[8].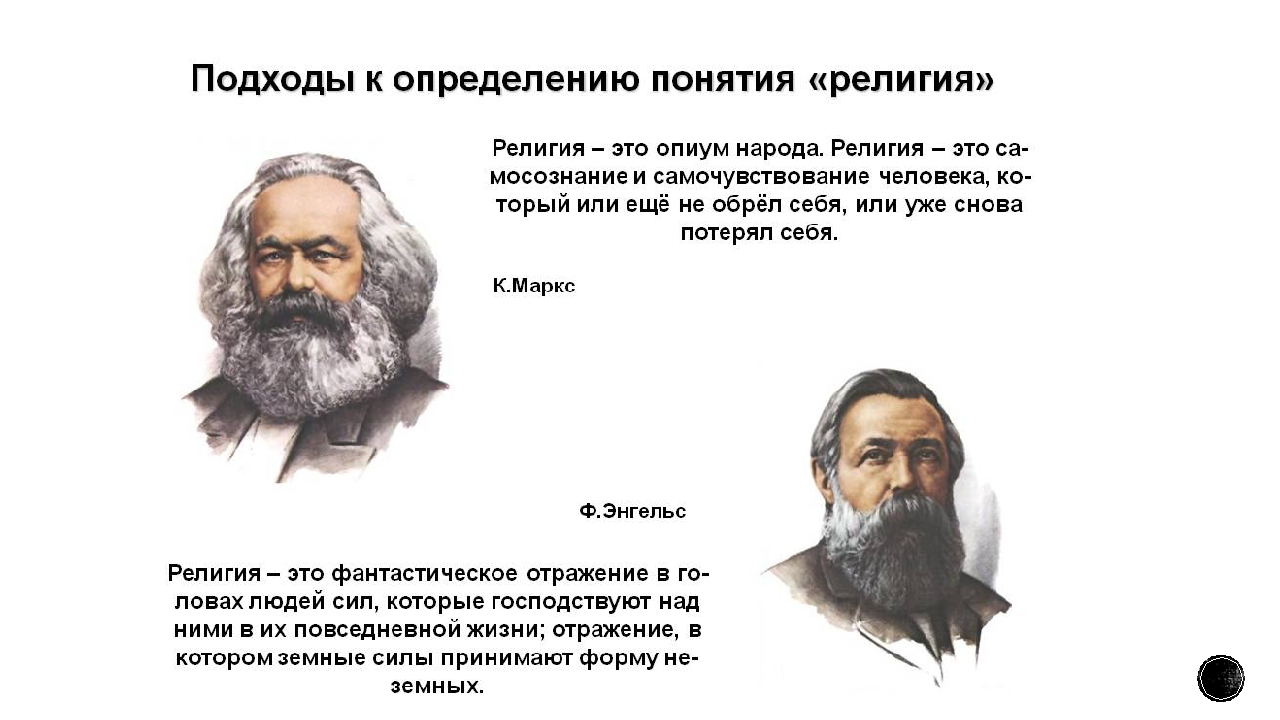 Комментируя это изречение Маркса, Ленин писал: «Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие»[9]. Он рассматривал эту формулу Маркса как «краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии»[10].
Комментируя это изречение Маркса, Ленин писал: «Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие»[9]. Он рассматривал эту формулу Маркса как «краеугольный камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии»[10].
Функция религии – примирять противостоящие в обществе группы, эксплуататорскую и эксплуатируемую. Религия совмещает несовпадающие интересы этих групп, причем делает это за счет одной из них. Официально признанная государством и предлагаемая церковью обществу, такая религия именуется ортодоксией.
Государство и церковь в классово антагонистическом обществе выступают в тандеме, каждая составляющая которого выполняет свое предназначение, но соотношение между ними изменчиво. Они не только являются взаимным дополнением, но могут замещать друг друга, по крайней мере отчасти. Церковь иногда стремится оттеснить государственную власть от некоторых сфер общественной жизни, а государство – присвоить те или иные прерогативы церкви. В отношениях между ними, в общем союзнических, возникают и коллизии. В средневековой Европе церковь требовала от государей вассальной зависимости, стремилась к теократии; государственной власти случалось «ходить в Каноссу».
Они не только являются взаимным дополнением, но могут замещать друг друга, по крайней мере отчасти. Церковь иногда стремится оттеснить государственную власть от некоторых сфер общественной жизни, а государство – присвоить те или иные прерогативы церкви. В отношениях между ними, в общем союзнических, возникают и коллизии. В средневековой Европе церковь требовала от государей вассальной зависимости, стремилась к теократии; государственной власти случалось «ходить в Каноссу».
На Руси был воспринят из Византии вместе с христианством такой вариант отношений государства и церкви, который ставил последнюю в положение младшего союзника и сателлита. В ходе истории возможности церкви, изначально ограниченные, сужались. Образование централизованного государства вело к тому, что права и обязанности церкви перераспределялись в пользу светской власти. Попытка патриарха Никона поставить священство выше царства успеха не имела. А в XVIII столетии патриаршество было вообще упразднено, и церковь стала на деле частью государственного аппарата.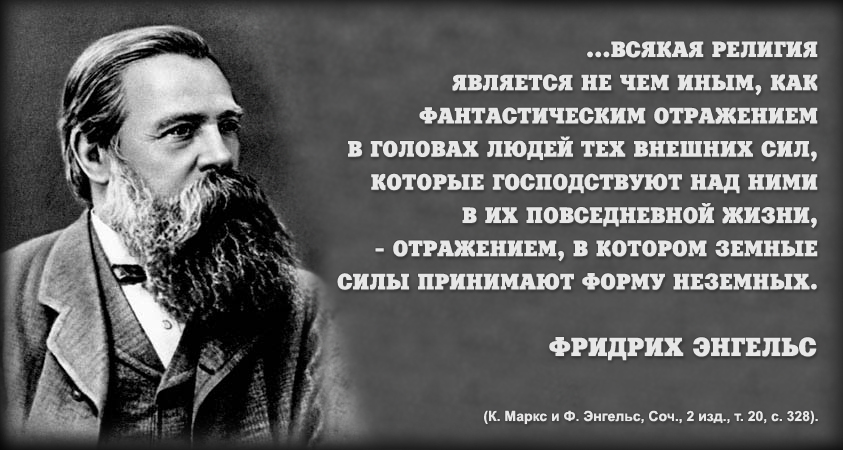
Религия разделяет судьбы всего общественного сознания, и ее представления, имеющие характер ортодоксии, выдвигаются на первый план. Они получают преобладание потому, что за ними стоит класс, осуществляющий в данное время господство в экономике и политике. Но религиозное сознание не сводится к одной лишь ортодоксии. В обществе имеются и такие религиозные взгляды, которые отличны от нее. Вместе с зарождением нового уклада в недрах существующей общественно-экономической формации появляется и новый тип религии. Когда данный уклад превращается в господствующий, формационно-образующий, одерживает победу и та религия, носителем которой он является.
В начале новой эры совершался социальный переворот, положивший конец рабовладению и давший начало феодализму, – феодальная революция, и христианство явилось ее идейным элементом. Отвергая религии, санкционировавшие тогдашнее общество, рабовладельческое, оно расшатывало и его реальную основу. Существовавшие порядки для него были столь же неприемлемы, как и увенчивавшие их религиозные идеи.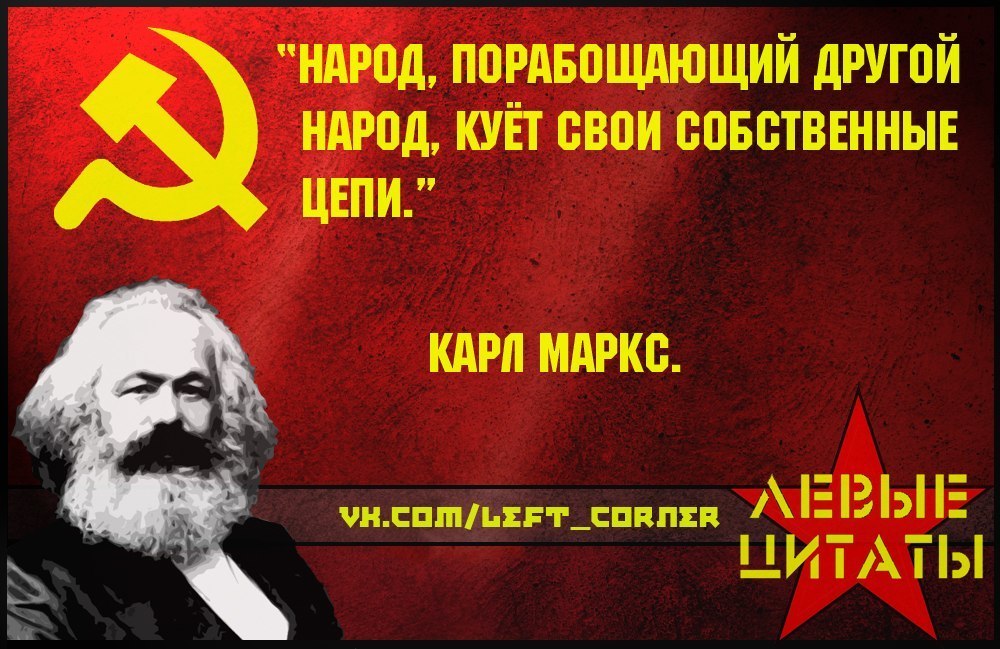 С победой феодализма христианство из оппозиционного и гонимого стало ортодоксальной верой, и, само собой, утратило те революционные начала, которые до этого были ему свойственны.
С победой феодализма христианство из оппозиционного и гонимого стало ортодоксальной верой, и, само собой, утратило те революционные начала, которые до этого были ему свойственны.
Социальным антагонистом ортодоксии являлись средневековые религиозные ереси – отклонения от нее; они противостояли церкви и конфликтовали с ней. Опорой им служили те элементы в общественных структурах, которые имели выход в будущее: буржуазные отношения, формировавшиеся в феодальном обществе. Появилась буржуазная разновидность христианства, протестантизм, совокупность ересей, а затем – конфессий. Если первая буржуазная революция – в Германии XVI столетия – не увенчалась успехом, то виной этому была все же не отрасль протестантизма, лютеранство, а незрелость общественных отношений и несогласие в рядах оппозиционных сил. Кальвинизм, другая его отрасль, вдохновил буржуазию в ее противоборстве с феодализмом и помог ей взять власть в ряде стран – Швейцарии, Голландии, Шотландии, Англии…
Во всех этих и подобных им случаях экономические и политические начала превалировали над религиозными. Но и религиозное начало не было пассивным. Экономическим и политическим притязаниям религия придавала дополнительную силу. Религиозная оппозиция говорила не от своего имени, а от имени господа бога. Массы, приведенные в движение религией, опрокидывали социальные устои. Вполне очевидно, что в данном своем проявлении религия вряд ли способна породить мысль об усыпляющем человека опиуме. Не свидетельствуют о какой-то социальной расслабленности и преследования ортодоксией тех, кто сомневался в ее правоте. Верхи общества в их отношениях с низами также не испытывают какого-либо наркотического воздействия. Религия не внушает им пассивность и смирение, их волю и разум она не парализует. Для них она скорее стимулятор, допинг.
Но и религиозное начало не было пассивным. Экономическим и политическим притязаниям религия придавала дополнительную силу. Религиозная оппозиция говорила не от своего имени, а от имени господа бога. Массы, приведенные в движение религией, опрокидывали социальные устои. Вполне очевидно, что в данном своем проявлении религия вряд ли способна породить мысль об усыпляющем человека опиуме. Не свидетельствуют о какой-то социальной расслабленности и преследования ортодоксией тех, кто сомневался в ее правоте. Верхи общества в их отношениях с низами также не испытывают какого-либо наркотического воздействия. Религия не внушает им пассивность и смирение, их волю и разум она не парализует. Для них она скорее стимулятор, допинг.
Марксизм по-разному характеризует разноликую религию в ее различных формах и проявлениях. Опиумом она названа потому, что регламентирует жизнь в классово антагонистическом обществе в интересах верхов, и такое восприятие ее – краеугольный камень марксистской трактовки.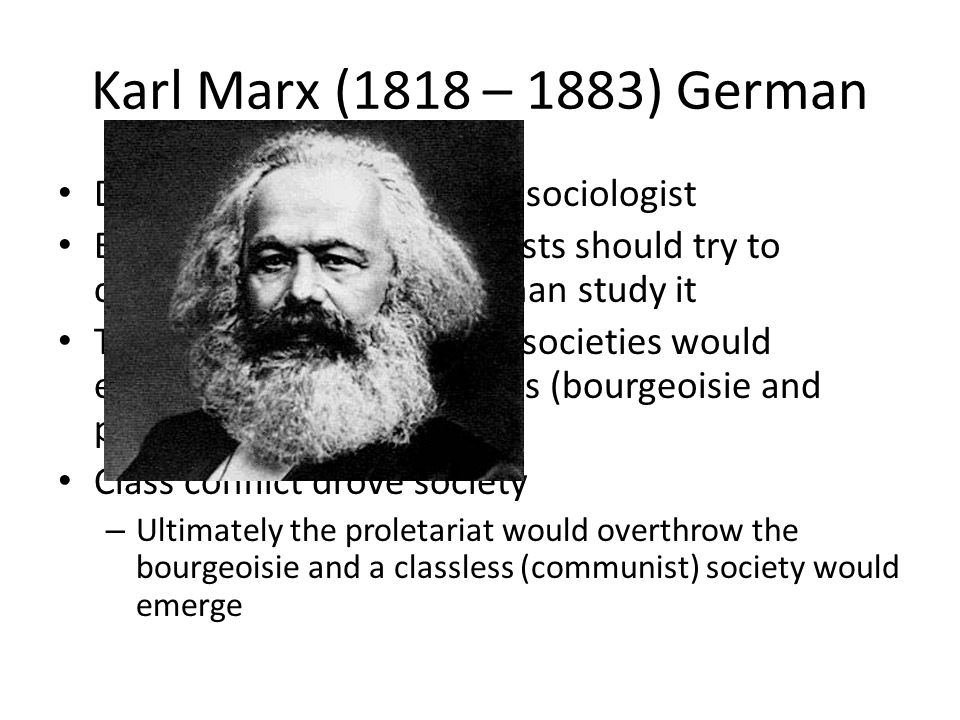
Констатируя факт, что «выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития», Ленин напоминал и такие случаи, когда «борьба демократии и пролетариата шла в форме борьбы одной религиозной идеи против другой»[11]. Тот или иной социальный идеал, выдвинутый на арену идейной жизни, мог дополняться религиозной формой, которая заключала его в себе. Форма эта не свидетельствует, однако, непременно об отсталости и устремленности в прошлое самого социального идеала. Бывает и так, что за религиозным оформлением скрыто намерение обновить общество, а за светским, напротив, – сохранить отжившее.
Под религиозной оболочкой может таиться и социалистическое содержание. Значительное явление прежде и теперь – христианский социализм. Но существует он в двух видах, кардинально различающихся. Христианский социализм способен дать прикрытие для движений и партий, которые не имеют ничего общего с социализмом. Есть и так называемый левый христианский социализм, искренне разделяющий идеи социализма и проявляющий неподдельную неприязнь к капитализму. Свою поддержку социалистических программ христианский социализм обосновывает религиозными категориями; он считает, что социализм – это путь Христа, а капитализм – дорога дьявола, Иуды.
Свою поддержку социалистических программ христианский социализм обосновывает религиозными категориями; он считает, что социализм – это путь Христа, а капитализм – дорога дьявола, Иуды.
Философия марксизма напоминала Ленину целостный кусок стали; из нее, не нанося ущерба, «нельзя вынуть ни одной основной посылки, ни одной существенной части»[12]. К числу этих неотъемлемых составных частей относится и восприятие религии, имеющее атеистическую ориентацию. Но марксистская организация, партия, не рассматривает себя как некую секту, отгораживающуюся от всех прочих реальных сил, пытающихся преобразовать мир на принципах социальной справедливости. В борьбе за новый тип общества коммунистическому движению не обойтись без союзников, в том числе таких, которые разделяют религиозные убеждения. Установки, в религиозном виде представляющие социалистическую идеологию, коммунистическому движению ближе, чем взгляды групп, организаций и частных лиц, пропагандирующих религиозное свободомыслие, если оно буржуазно по природе, причастно к антикоммунизму.
Ленин считал, что не нужно «выдвигать религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему не принадлежащее», и «допускать раздробление сил действительно революционной, экономической и политической борьбы ради третьестепенных мнений или бредней, быстро теряющих всякое политическое значение, быстро выбрасываемых в кладовую для хлама самым ходом экономического развития». Единство верующих и неверующих в борьбе за социальную справедливость на земле важнее, чем единство мнений «о рае на небе»[13].
«Война» с религией, как и конфликты на религиозной почве, способны лишь разобщать силы, заинтересованные в построении нового общества, дезориентировать их. «Борьбу с религией нельзя ограничивать абстрактно-идеологической проповедью, нельзя сводить к такой проповеди; эту борьбу надо поставить в связь с конкретной практикой классового движения, направленного к устранению социальных корней религии. Почему держится религия в отсталых слоях городского пролетариата, в широких слоях полупролетариата, а также в массе крестьянства? По невежеству народа, отвечает буржуазный прогрессист, радикал или буржуазный материалист.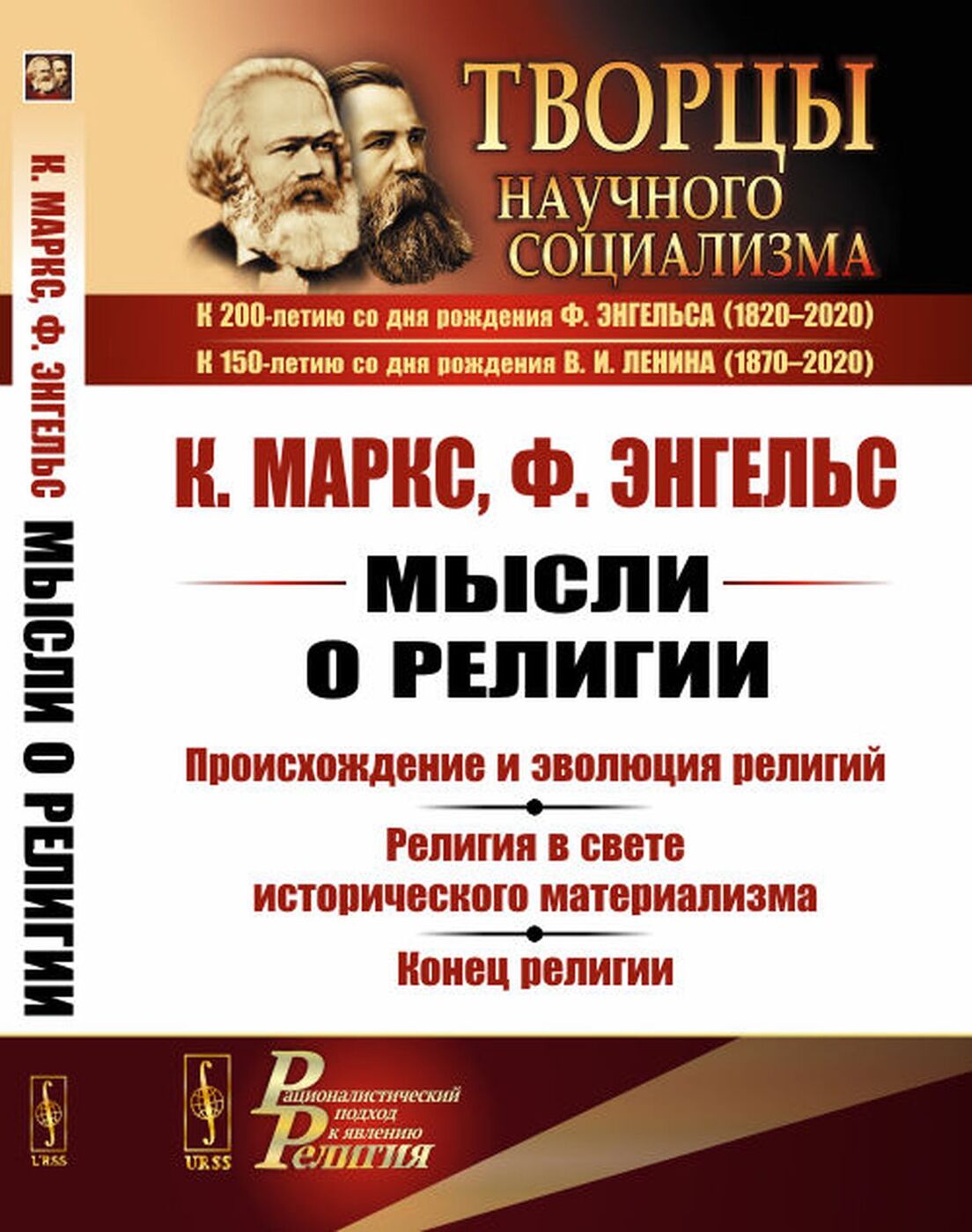 Следовательно, долой религию, да здравствует атеизм, распространение атеистических взглядов есть главная наша задача. Марксист говорит: неправда. Такой взгляд есть поверхностное, буржуазно-ограниченное культурничество. Такой взгляд недостаточно глубоко, не материалистически, а идеалистически объясняет корни религии. В современных капиталистических странах это – корни главным образом социальные»[14]. Вражде с религией, которая лишь отвлекает массовое движение от действительно важных вопросов, экономических и политических, марксизм противопоставляет «спокойную, выдержанную и терпеливую, чуждую всякого разжигания второстепенных разногласий, проповедь пролетарской солидарности и научного миросозерцания»[15].
Следовательно, долой религию, да здравствует атеизм, распространение атеистических взглядов есть главная наша задача. Марксист говорит: неправда. Такой взгляд есть поверхностное, буржуазно-ограниченное культурничество. Такой взгляд недостаточно глубоко, не материалистически, а идеалистически объясняет корни религии. В современных капиталистических странах это – корни главным образом социальные»[14]. Вражде с религией, которая лишь отвлекает массовое движение от действительно важных вопросов, экономических и политических, марксизм противопоставляет «спокойную, выдержанную и терпеливую, чуждую всякого разжигания второстепенных разногласий, проповедь пролетарской солидарности и научного миросозерцания»[15].
Еще один вопрос, связанный с вышесказанным: есть ли место в марксистской партии для тех, кто имеет религиозные верования? В работе «Об отношении рабочей партии к религии» Ленин отвечал на этот вопрос. Он считал, что не только возможно допускать, но даже следует «сугубо привлекать» в партию рабочих, сохраняющих религиозные представления, – конечно, не для борьбы с партийной программой, а для конкретных действий в соответствии с этой программой. В партию может быть принят и священник, идущий в нее для совместной политической работы, принимающий ее программу, с тем чтобы проводить ее в жизнь.
В партию может быть принят и священник, идущий в нее для совместной политической работы, принимающий ее программу, с тем чтобы проводить ее в жизнь.
Марксизм рассматривает объект изучения, религию, и в гносеологическом аспекте. Для него религия – одно из проявлений идеализма. Последний подразделяется на две формы. Одна из них – идеализм философский, другая – религиозный, или просто религия. Решение вопроса об отношении мышления к бытию, духа к природе, разнонаправленное в материализме и идеализме, аналогично в идеалистической философии и религии.
В параграфе втором главы пятой «Святого семейства», написанном Марксом, раскрыта «тайна спекулятивной конструкции» – умозрительных построений, свойственных идеализму. Отражения действительных предметов воспринимаются идеализмом как сущности, независимые от человека и его сознания, как такие феномены, без которых реальные объекты невозможны. Свои конструкции идеализм создает на «мистический манер». Когда спекулятивный философ из собственного рассудка, который он считает субъектом, находящимся вне его самого, вывел реальные вещи, то он «совершил чудо».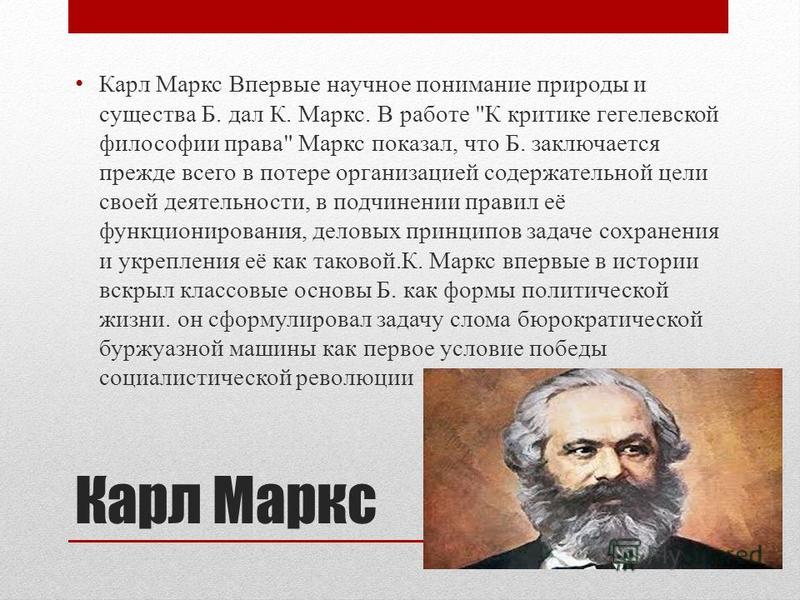 И «если христианской религии известно только одно воплощение бога, то спекулятивная философия знает столько воплощений, сколько имеется вещей… Всякий раз, когда спекулятивный философ заявляет о существовании тех или иных предметов, он совершает акт творения»[16]. Спекулятивная конструкция у идеализма любого рода, будь то философский или религиозный, – одна и та же.
И «если христианской религии известно только одно воплощение бога, то спекулятивная философия знает столько воплощений, сколько имеется вещей… Всякий раз, когда спекулятивный философ заявляет о существовании тех или иных предметов, он совершает акт творения»[16]. Спекулятивная конструкция у идеализма любого рода, будь то философский или религиозный, – одна и та же.
В «Философских тетрадях» Лениным предложено понятие «гносеологические корни идеализма», которые для идеалистической философии и религии являются общими. По его мнению, материализм метафизический, «грубый», упрощал ситуацию, поскольку его сторонники полагали, что идеализм – не более чем абсурд. Подобной интерпретации идеализма Ленин противопоставил его диалектическое восприятие. Идеализм складывается в процессе познания, растет на его «живом дереве». Но процесс познания не прямолинеен, он сложен и противоречив. Ему свойственны сбои, не чужды искажения, когда понятия, идеи трактуются как самостоятельные, отдельные существа.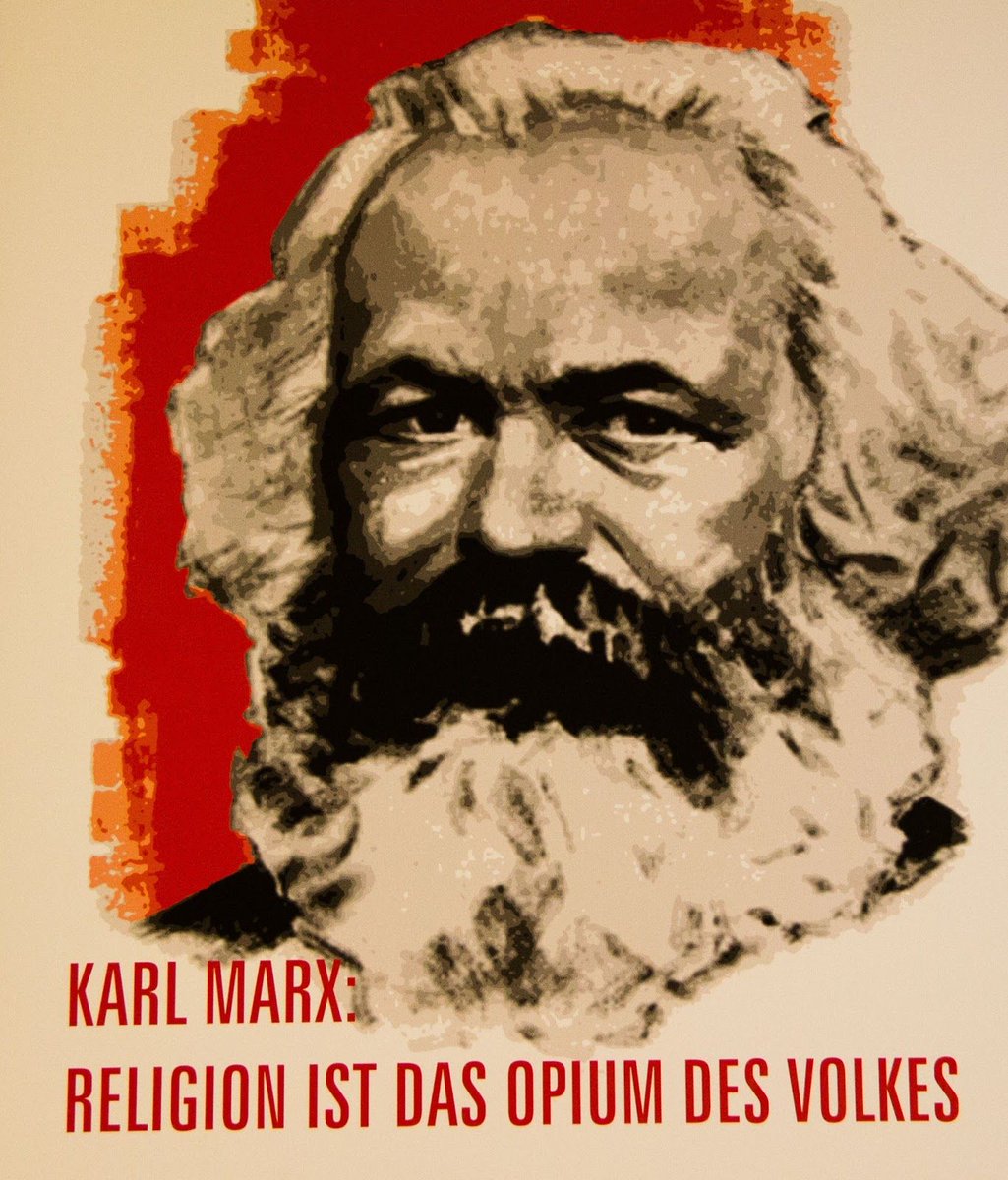
Одинаково с философским идеализмом решая основной гносеологический вопрос, имея с ним одну и ту же спекулятивную конструкцию и общие гносеологические корни, религия сходна с ним и в том отношении, что она охватывает совокупность жизненных явлений, проявляет мировоззренческий подход к ним. Религия напоминает философию, но упрощенную и адаптированную, предназначенную не для малого числа приверженцев, что характерно для философского идеализма, а для весьма обширной аудитории.
Идеализм философский оперирует абстрактными понятиями, умозрительными конструкциями. В религиозном идеализме все проще. Для него предпочтительнее конкретика, наглядность. Понятия и представления получают здесь облик существ сверхъестественной природы. Религия – это идеализм, имеющий образную форму. Ход истории усложняет религиозные системы. Если первоначально в них безраздельно господствует образное начало, то затем появляется и все более усиливается начало понятийное, догматическое, которое дополняет образное.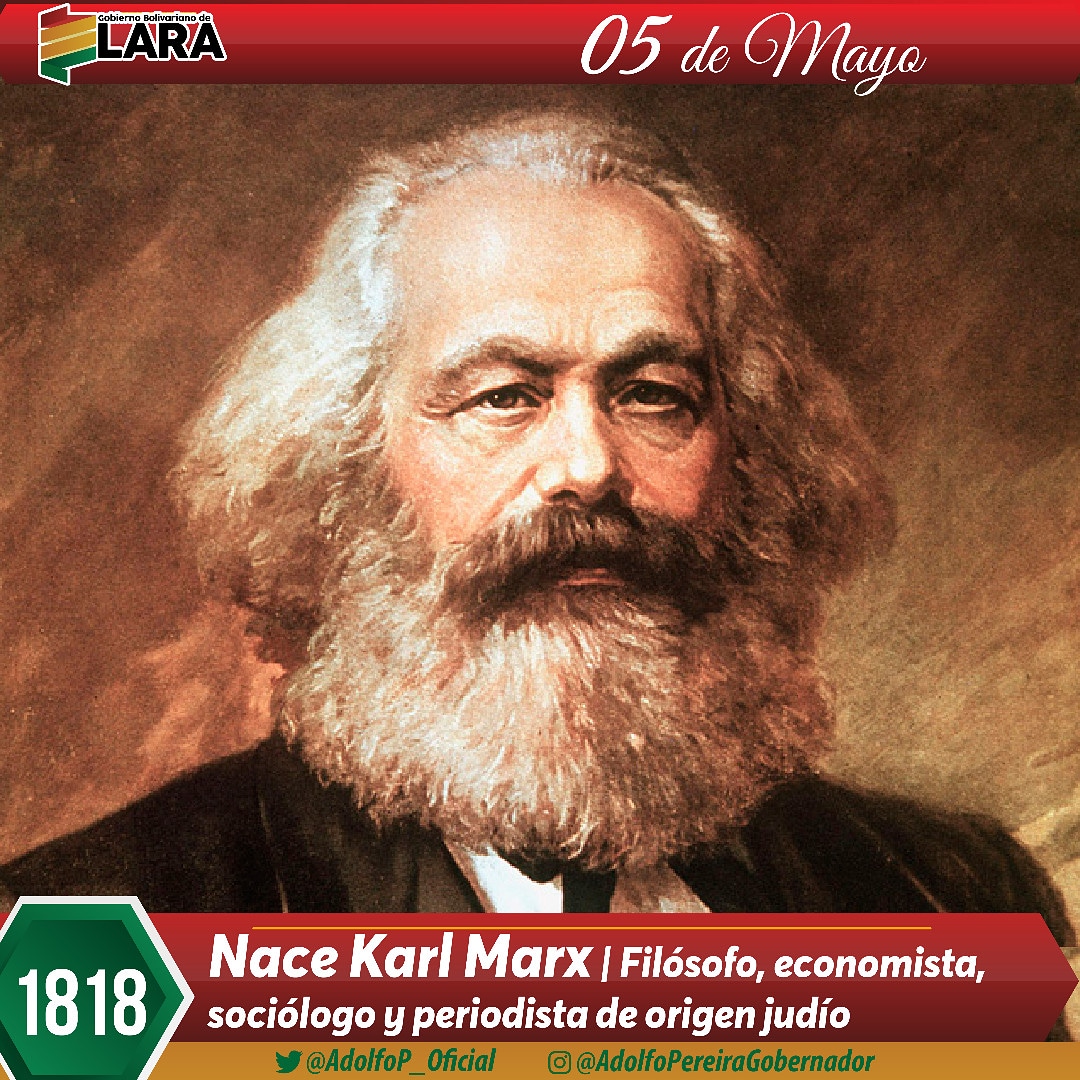 В мировых религиях складывается сложная догматика, они обладают разработанной теологией. Но и здесь образность – принадлежность и характерная особенность каждой из них. Без нее религиозный идеализм невозможен.
В мировых религиях складывается сложная догматика, они обладают разработанной теологией. Но и здесь образность – принадлежность и характерная особенность каждой из них. Без нее религиозный идеализм невозможен.
Религиозные образы, воспринимаемые как реально действующие существа, внушающие страх и признательность, производят впечатление не только на сознание, но также на эмоциональную сферу. С религией связано особое эмоциональное состояние – религиозное чувство. Одна из установок марксистской концепции религии – недопустимость оскорбления этого чувства.
Вся история философии – это история борьбы материализма с идеализмом. В связи с этим возникает вопрос: как следует относиться философскому материализму к тому, что было создано его мировоззренческим антагонистом? Материализм метафизический считал, что наследие, доставшееся от идеализма, не заслуживает внимания и его можно игнорировать без всякого ущерба для познания. Иначе рассматривается эта проблема в материализме, использующем диалектику.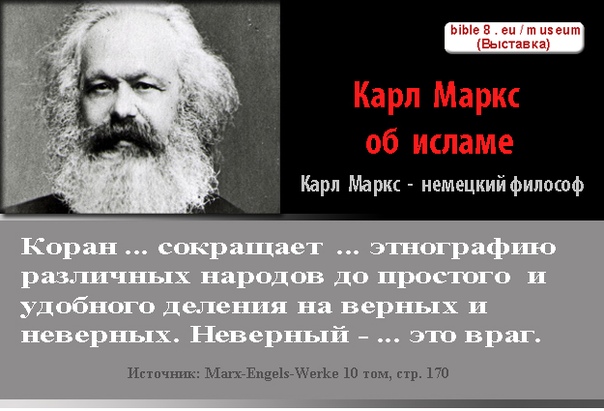 Он не отбрасывает работу, проделанную во времена, уже прожитые человечеством, а проявляет к ней исторический и критический подход, стремясь сохранить и использовать, «вышелушить» некоторые результаты, обретенные «в рамках ложной, но для своего времени и для самого хода развития неизбежной идеалистической формы…»[17]
Он не отбрасывает работу, проделанную во времена, уже прожитые человечеством, а проявляет к ней исторический и критический подход, стремясь сохранить и использовать, «вышелушить» некоторые результаты, обретенные «в рамках ложной, но для своего времени и для самого хода развития неизбежной идеалистической формы…»[17]
В познание мира, которое совершалось в пределах обеих мировоззренческих платформ, материалистической и идеалистической, кое-что вносил и религиозный идеализм. Ф. Энгельс обращал внимание на то, что к становлению идей о равенстве и справедливости было причастно раннее христианство. Он отметил: «В христианстве впервые было выражено отрицательное равенство перед богом всех людей как грешников и в более узком смысле равенство тех и других детей божьих, искупленных благодатью и кровью Христа»[18]. Но и такое понимание равенства исключало существовавшие привилегии – национальные, сословные. Был провозглашен новый социальный и мировоззренческий принцип. Возникло расхождение со всем идейным комплексом древности, который исключал, в частности, равенство рабов, относимых в разряд вещей, со свободным населением и перед богами.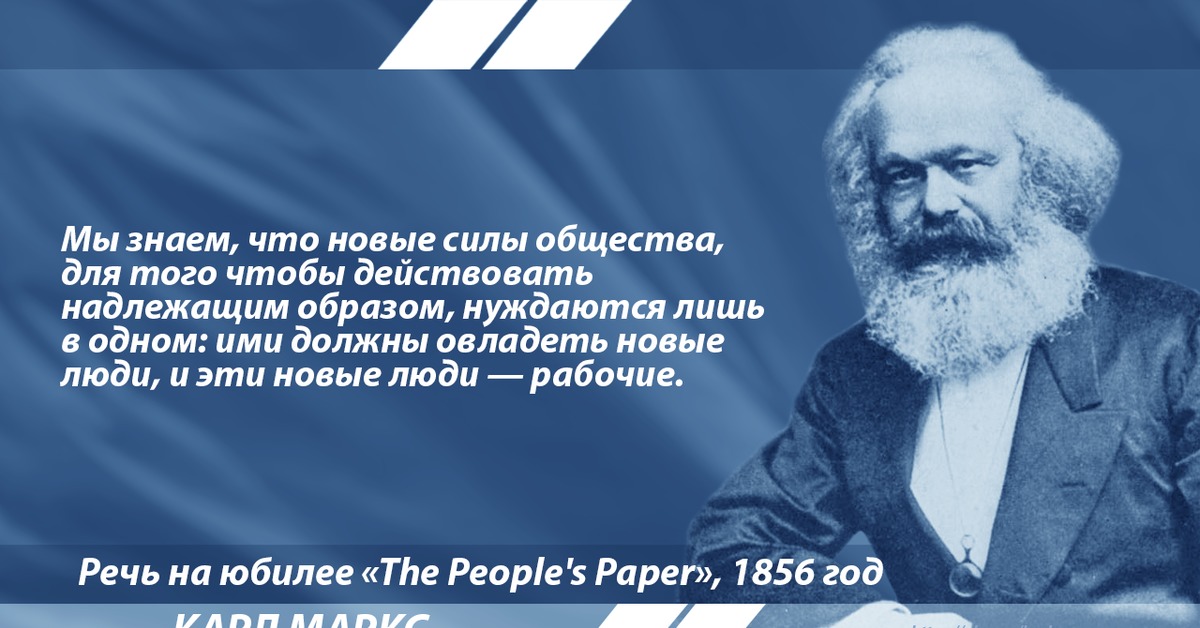 Новые воззрения, по словам Ф. Энгельса, казались идеологам античности безумными и преступными, подвергались преследованиям.
Новые воззрения, по словам Ф. Энгельса, казались идеологам античности безумными и преступными, подвергались преследованиям.
Дальнейший шаг в трактовке данной проблемы был сделан, когда «из политического равенства стали выводить равенство социальное. Впервые это было резко выражено – конечно, в религиозной форме – в Крестьянской войне»[19]. у Энгельса речь здесь идет о Крестьянской войне XVI столетия в Германии, о тех идейных явлениях, которые ее сопровождали.
Когда Энгельс подводил итог истории познания, то учитывал сложность этого процесса, в котором менялись не только поколения, но также мотивировки и мировоззрения: «Античная философия была первоначальным, стихийным материализмом… Старый материализм подвергся, таким образом, отрицанию со стороны идеализма. Но в дальнейшем развитии философии идеализм также оказался несостоятельным и подвергся отрицанию со стороны современного материализма. Современный материализм – отрицание отрицания – представляет собой не простое восстановление старого материализма, ибо к непреходящим основам последнего он присоединяет еще все идейное содержание двухтысячелетнего развития философии и естествознания, как и самой этой двухтысячелетней истории»[20].
В марксистской трактовке религии также обращено внимание на зависимость этого феномена от его собственного прошлого. Энгельс писал о том, что после своего возникновения религия развивается в связи со всей совокупностью имеющихся представлений, перерабатывая их на новый лад. Она имеет дело с мыслями, которые обладают «независимым развитием» и подчиняются «собственным законам»[21]. Но, конечно, изменения, происходящие в религиозном сознании, определяются в конечном счете отношениями, имеющими базисный характер. Взаимоотношение религии с ее собственным прошлым, включая и силу религиозной традиции, Ленин обозначал как ее исторические корни.
Даже при своем первоначальном становлении религия не обошлась без предшественников – целого комплекса предварявших ее представлений. Данная система взглядов состояла в том, что природа во всех своих проявлениях рассматривалась как живая, уподоблялась человеку. В этнографии и философии религии эти воззрения получили особое название – аниматизм.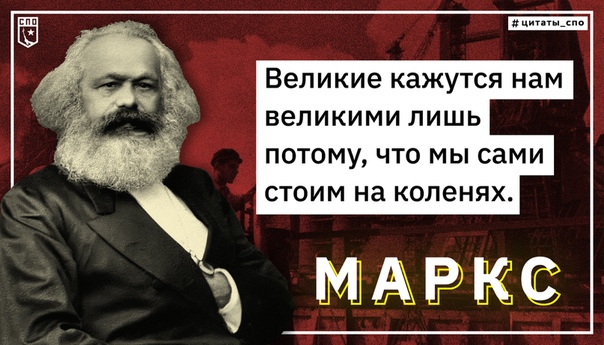 Аниматизм – еще не религия; он не раздваивает действительность и не противопоставляет идеальное материальному как начало главенствующего. Но он создает предпосылки для возникновения религии.
Аниматизм – еще не религия; он не раздваивает действительность и не противопоставляет идеальное материальному как начало главенствующего. Но он создает предпосылки для возникновения религии.
В анимизме, первооснове всякой религии, представление о том или ином объекте, отделенное от него, принимает вид особого существа – души, которая и влияет на его действия и поступки. Постепенно душа обособляется от того объекта, которому она обязана своим появлением в сознании, превращается в духовную сущность иного рода – дух. Наряду с душами, сохраняющими принадлежность к некоторым объектам, человеку в том числе, в религии обретают значимость и духи.
Но и после появления анимизма аниматизм долгое время продолжал существовать наряду с ним. В генетически ранней мифологии активно действующие вещи уживаются с душами и духами. Аниматизм дает о себе знать и в системе религиозных верований, хотя и в преобразованном виде. Фетиш, идол, кумир, икона – не только священные предметы, за которыми стоит дух, бог, святой.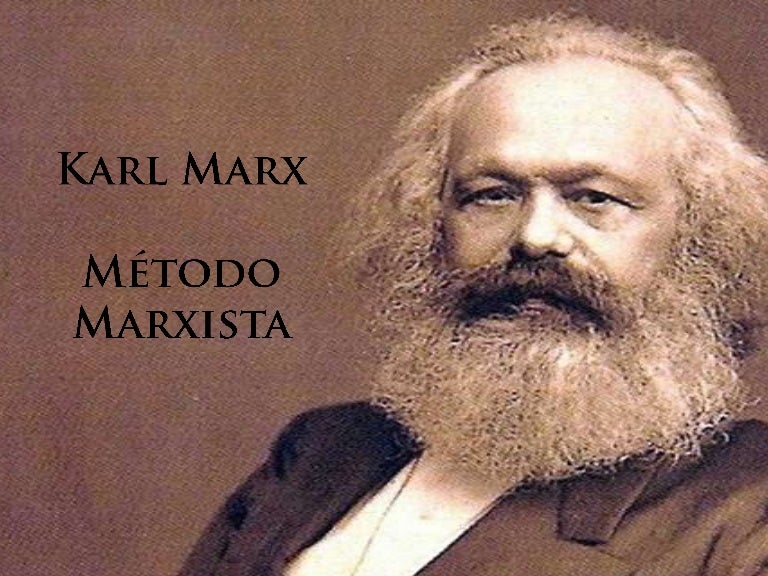 Значимы не только те, кто в них представлен, но и сами изображения. Поклонение относится не только к той духовной сущности, которую культовый предмет олицетворяет, но также и к нему самому.
Значимы не только те, кто в них представлен, но и сами изображения. Поклонение относится не только к той духовной сущности, которую культовый предмет олицетворяет, но также и к нему самому.
Религиозная логика, ведущая от аниматизма к анимизму или от представления о душе – к духу, проявляет себя и в других направлениях. Признание души повлекло за собой постановку вопроса о ее потустороннем существовании. Верующий в душу должен был интересоваться ее дальнейшей судьбой. Ход его рассуждений о душе и его последствия Энгельс изложил следующим образом: «Если она в момент смерти отделяется от тела и продолжает жить, то нет никакого повода придумывать для нее еще какую-то особую смерть. Так возникло представление о ее бессмертии…» Тогда оно вовсе не служило утешением, скорее – «неотвратимой судьбой», даже «подлинным несчастьем». «Не религиозная потребность в утешении приводила всюду к скучному вымыслу о личном бессмертии, а то простое обстоятельство, что, раз признав существование души, люди в силу всеобщей ограниченности никак не могли объяснить себе, куда же девается она после смерти тела»[22].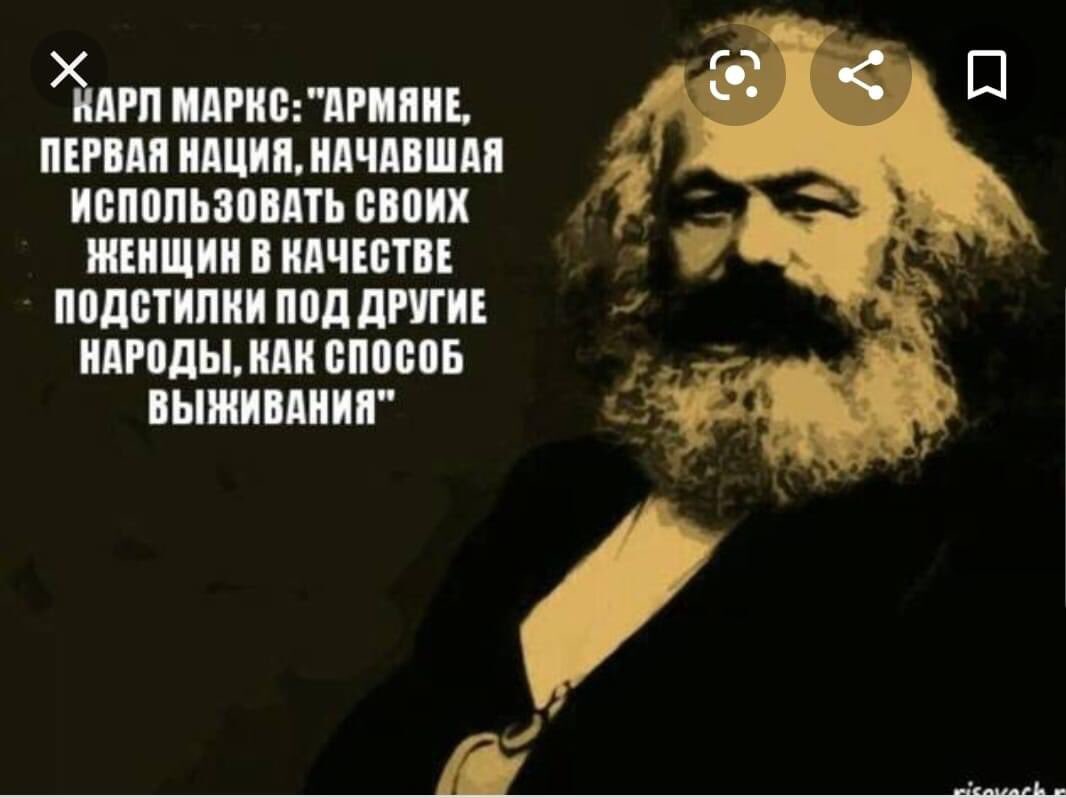 Потустороннее существование как бы продолжало земную жизнь, уподоблялось ей, копировало ее.
Потустороннее существование как бы продолжало земную жизнь, уподоблялось ей, копировало ее.
Впоследствии в условиях классово антагонистического общества подобные взгляды претерпели изменения, став существенно иными, образовали учение о грядущем утешении или возмездии, содержащее картины страшного суда, рая и ада.
Первобытная религия, анимизм – вера в духов и души, не подразделяет еще свои духовные сущности на высших и низших. Все они равны между собой. Но социальная дифференциация сопровождается расслоением мира сверхъестественного. Из его однородной среды выделяется слой привилегированных существ – богов. Но этим процесс создания религиозных конструкций не завершается. В процессе абстрагирования, который Энгельс сравнивал с дистилляцией, из политеизма вырастает монотеизм, бог которого явился «концентрированной квинтэссенцией множества прежних племенных и национальных богов»[23]. Энгельс считал подобное явление совершенно естественным для умственного развития.
Если анимизм представляет собой начальную стадию эволюции – смены друг другом сверхъестественных существ, то монотеизм – ее завершающая фаза. По поводу одной из монотеистических религий, христианства, Энгельс писал: «…все возможности религии исчерпаны… После христианства уже невозможна никакая другая религия»[24]. Вывод этот, естественно, может быть распространен и на другие религии, родственные христианству.
По поводу одной из монотеистических религий, христианства, Энгельс писал: «…все возможности религии исчерпаны… После христианства уже невозможна никакая другая религия»[24]. Вывод этот, естественно, может быть распространен и на другие религии, родственные христианству.
Но ход религиозного развития не ограничивается переработкой прежних представлений в нечто новое. Религия способна и в своих новых системах воспроизводить прежние – в непосредственном виде или как варианты. Послужившие делу становления политеизма анимистические представления не исчезают – вера в души и духов сохраняется и при многобожии. Пользуется полным признанием она и в единобожных религиях. Боги, которым поклонялись ранее, также не исчезают без следа, хотя и меняют свой облик. «Чтобы стать религией, – писал Энгельс, – монотеизм с давних времен должен был делать уступки политеизму…» Христианство, в частности, «могло вытеснить у народных масс культ старых богов только посредством культа святых…»[25].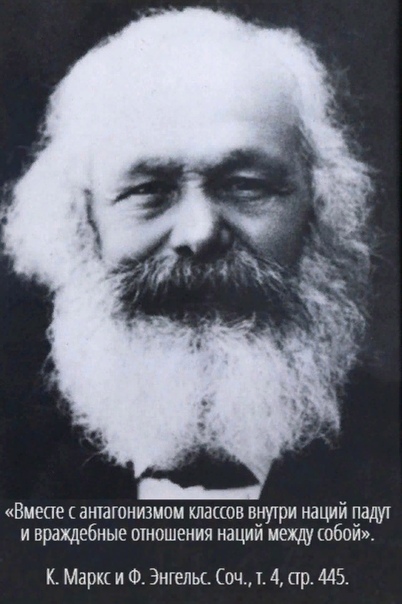
Придя из Византии на Русь, христианство столкнулось здесь со славянскими богами. Идолы, поставленные в их честь, свергались со своих пьедесталов, уничтожались. Но это не давало ожидаемых результатов. Оказалось, что для изживания памяти о них требуется долгий срок. На их место предлагались святые, которые представляли собой те же олицетворения, исполняли аналогичные функции, или, по крайней мере, были созвучны им по именам.
Результатом встречи на Руси христианства и язычества стало так называемое двоеверие – сочетание той и другой совокупности верований. Данное явление свидетельствует о том, что ни язычеству не удалось сохранить былую силу, ни христианству в полной мере одолеть его. Это религиозное соединение дожило до наших дней.
Образование в религии исторически разнородных наслоений – ее характерный признак. В современной религии обнаруживаются такие элементы, которые генетически уходят в глубь времен. в научном обиходе они обозначаются как архаизмы, реликты.
Но религия контактирует не только со своими предшественниками – по вертикали, но и с соседними религиозными комплексами – по горизонтали.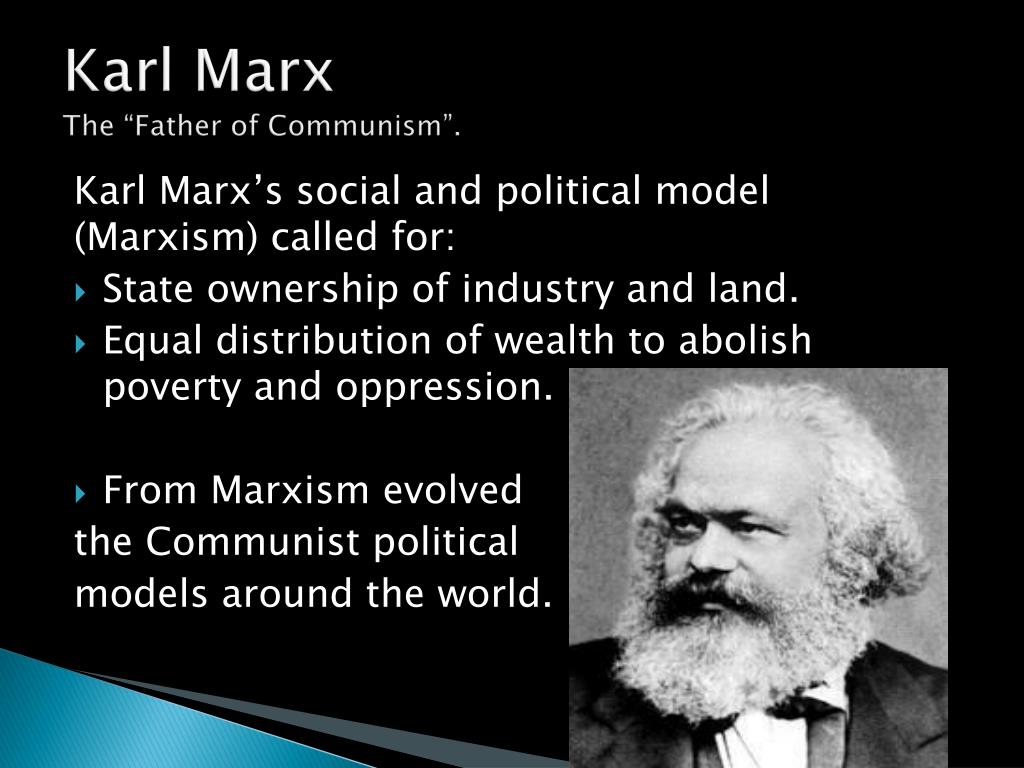 В той или иной конкретной ее форме отражаются взаимоотношения с другими современными ей формами, противостояние и противоборство с ними, заимствования или отталкивания от них. Маркс так говорил, например, о лютеранстве и католицизме в том историческом эпизоде, когда новая конфессия обособлялась от традиционной: «…Лютер победил рабство по набожности только тем, что поставил на его место рабство по убеждению. Он разбил веру в авторитет, восстановив авторитет веры. Он превратил попов в мирян, превратив мирян в попов. Он освободил человека от внешней религиозности, сделав религиозность внутренним миром человека»[26].
В той или иной конкретной ее форме отражаются взаимоотношения с другими современными ей формами, противостояние и противоборство с ними, заимствования или отталкивания от них. Маркс так говорил, например, о лютеранстве и католицизме в том историческом эпизоде, когда новая конфессия обособлялась от традиционной: «…Лютер победил рабство по набожности только тем, что поставил на его место рабство по убеждению. Он разбил веру в авторитет, восстановив авторитет веры. Он превратил попов в мирян, превратив мирян в попов. Он освободил человека от внешней религиозности, сделав религиозность внутренним миром человека»[26].
Подобные ситуации характерны для тех отрезков истории, когда совершается назревшее и нарастающее размежевание религиозных антагонистов. Так было не только при расхождении лютеранства с католицизмом, но также и при разрыве христианства с иудаизмом или восточной ветви христианства, имевшей центр в Константинополе, с западной, римской. В такие моменты резко обозначаются признаки, свойственные данной религиозной общности, отличающие ее от той, с которой произошло столкновение. Акцент делается именно на специфических признаках, и в дальнейшем они сохраняются традиционно, хотя актуальность некоторых из них бывает утрачена.
Акцент делается именно на специфических признаках, и в дальнейшем они сохраняются традиционно, хотя актуальность некоторых из них бывает утрачена.
По типу их формирования Энгельс подразделял всю совокупность религий на две большие группы. К первой были отнесены те религии, которые возникают стихийно, ко второй – «искусственные». Наибольшей древностью отмечена первая из них. Это – анимизм и политеизм. Как свидетельствуют имеющиеся данные, складываются они непроизвольно. Обрабатывается и шлифуется уже имеющийся в наличии материал. К подобного рода деятельности причастны: в первобытном обществе служители культа (колдуны, шаманы) и старейшины, в рабовладельческом – жречество и привилегированный слой.
К числу искусственных религий Энгельс относил три – буддизм, христианство, ислам. Все они являются мировыми по степени распространения. В работах Энгельса обстоятельно проанализировано становление одной из этих религий – христианской. Этому сюжету посвящен цикл его работ – «Бруно Бауэр и первоначальное христианство», «Книга Откровения», «К истории первоначального христианства».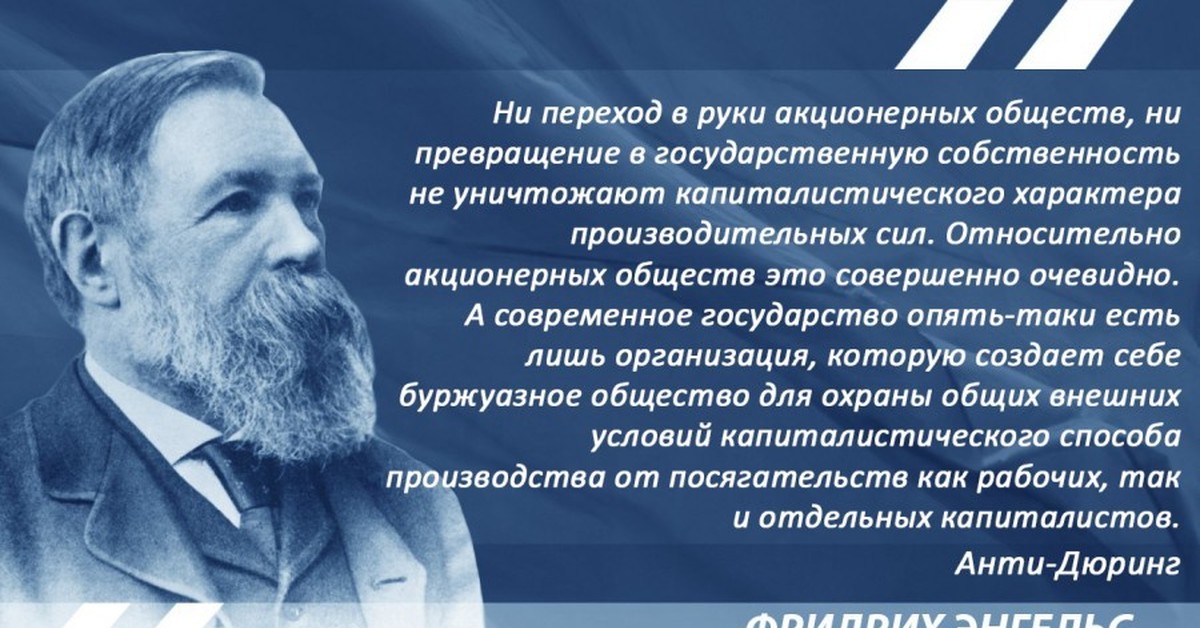 Проблемы эти затронуты и в некоторых других произведениях Энгельса. Было выявлено, что христианство, как и религии, предшествовавшие ему, создавалось стихийно, однако на естественный процесс его формирования оказывали влияние выдвигавшиеся из его среды идеологи, стремившиеся возглавить движение. Появилось его идейное и литературное сопровождение. Субъективный фактор был призван упорядочить аморфный религиозный материал, систематизировать его, создать тексты; некоторые из них будут признаны впоследствии каноничными, священными, другие – апокрифичными или еретическими. Отмечая идейные противоречия, свойственные раннему христианству, Энгельс обращал внимание и на те моменты в его развитии, которые дали ему возможность предстать в виде более или менее целостного образования: оно стало чем-то средним из взаимного воздействия наиболее влиятельных в нем групп. Придало ему известную завершенность также воздействие александрийской школы Филона и греко-римской философии – платоновской и особенно стоической.
Проблемы эти затронуты и в некоторых других произведениях Энгельса. Было выявлено, что христианство, как и религии, предшествовавшие ему, создавалось стихийно, однако на естественный процесс его формирования оказывали влияние выдвигавшиеся из его среды идеологи, стремившиеся возглавить движение. Появилось его идейное и литературное сопровождение. Субъективный фактор был призван упорядочить аморфный религиозный материал, систематизировать его, создать тексты; некоторые из них будут признаны впоследствии каноничными, священными, другие – апокрифичными или еретическими. Отмечая идейные противоречия, свойственные раннему христианству, Энгельс обращал внимание и на те моменты в его развитии, которые дали ему возможность предстать в виде более или менее целостного образования: оно стало чем-то средним из взаимного воздействия наиболее влиятельных в нем групп. Придало ему известную завершенность также воздействие александрийской школы Филона и греко-римской философии – платоновской и особенно стоической.
Влияние субъективного фактора сказалось на всей религиозной картине мира. Современные религии значительно сильнее отличаются друг от друга, чем те, которыми когда-то располагало религиозное сознание.
Марксизм прогнозирует будущее религии. О том, что она – не вечный спутник человека, писали уже философы в XVII и XVIII сто- летиях. Марксистская концепция внесла, однако, ясность в вопрос о социальной основе религии и необходимости ее устранения. К. Маркс писал А. Руге 30 ноября 1842 г.: религия гибнет «с уничтожением той извращенной реальности, теоретическим выражением которой она является…»[27]
Отказ от той основы, которая делает возможной религию, и создание новой, устраняющей ее, – целостный процесс. В «Капитале» читаем следующее: «Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и с природой. Строй общественного жизненного процесса, то есть материального процесса производства, сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем»[28].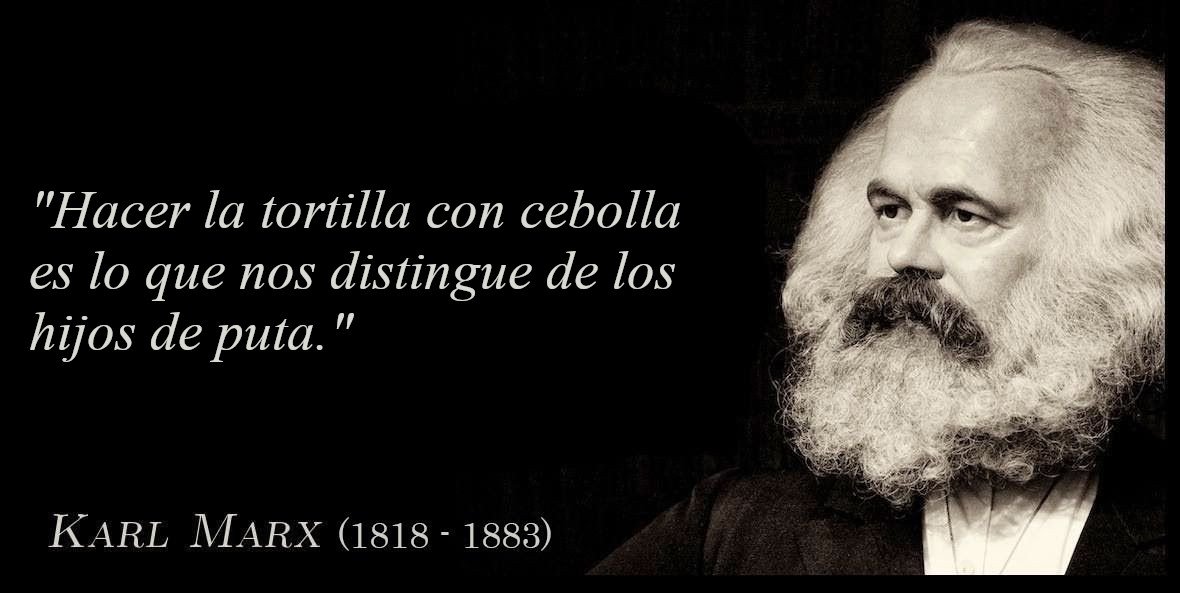
Энгельс писал в «Анти-Дюринге», что религия умрет своей естественной смертью, когда исчезнут противостоящие человеку силы, чуждые ему и кажущиеся непреодолимыми, когда он будет не только предполагать, но и располагать. Религиозное отражение исчезнет по той простой причине, что ему тогда просто нечего будет отражать. Энгельс предостерегал лишь от грубых нападок на религию, которые позволят ей обрести ореол мученичества и тем самым продлить свое существование.
В заключение хотелось бы сказать следующее. В последнее время марксистская трактовка религии, являющаяся ориентиром для различных отраслей научного религиоведения, подвергается искажениям, вульгаризируется. Если данная статья, рассматри-вающая эту концепцию с привлечением работ Маркса, Энгельса, Ленина, ее основателей, посодействует устранению существующих недоразумений, вольных или невольных, автор сочтет изложенное выше небесполезным.
[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 414–415.
[2] Маркс К.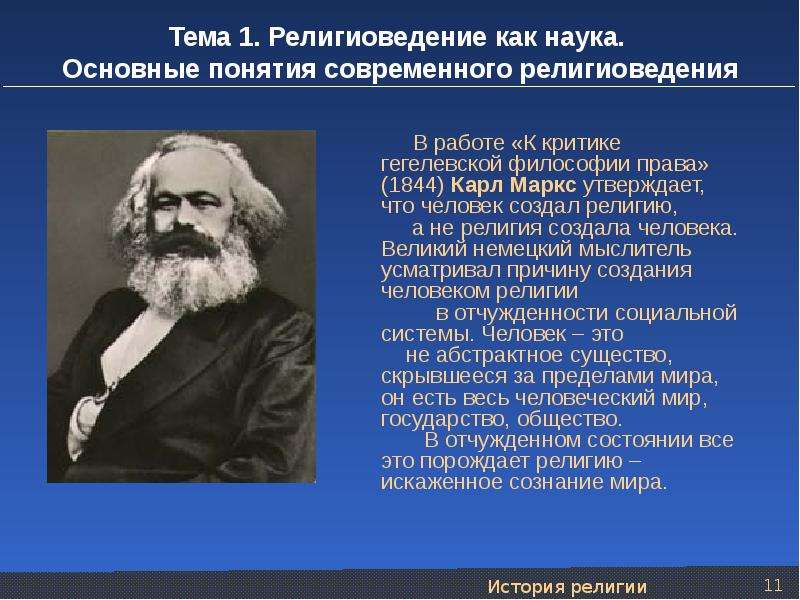 , Энгельс Ф. Соч. – т. 20. – С. 328–329.
, Энгельс Ф. Соч. – т. 20. – С. 328–329.
[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 17. – С. 419.
[4]Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 18. – С. 514.
[5] Маркс К, Энгельс Ф. Соч. – Т. 7. – С. 370–371.
[6] Там же. – С. 371.
[7] Там же. – Т. 21. – С. 292–293.
[8] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 415.
[9] Ленин В. И. Указ. соч. – Т. 12. – С. 142–143.
[10] Там же. – Т. 17. – С. 416.
[11] Ленин В. И. Указ. соч. – Т. 4. – С. 228; – т. 48. – С. 232.
[12] Ленин В. И. Указ. соч. – Т. 18. – С. 346.
[13] Там же. – Т. 12. – С. 146.
[14] Ленин В. И. Указ. соч. – Т. 17. – С. 418–419.
[15] Там же. – Т. 12. – С. 147.
[16] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 2. – С. 64–65.
[17] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. – С. 513.
[18] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – С. 636.
[19] Там же.
[20] Там же. – С. 142.
142.
[21] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 21. – С. 313.
[22] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – С. 282.
[23] Там же. – С. 295.
[24] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 591.
[25] Там же. – Т. 22. – С. 490.
[26] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 422–423.
[27] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 27. – С. 370.
[28] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 23. – С. 90.
Маркс и религия – Православный журнал «Фома»
Приблизительное время чтения: 11 мин.
5 мая исполняется 195 лет со дня рождения великого немецкого философа и революционера Карла Маркса, создателя марксизма. Под знаком этого учения наша страна прожила 70 лет, и сейчас еще многие не могут определиться в своем отношении к амбивалентному советскому периоду, был ли он безусловным злом или безусловным добром.
Благочестивый гимназист
Бьюсь об заклад, читатель: ты бы сам, скорее всего, ни за что бы не угадал, кто написал эти строки:
«Единение с Христом состоит в самом тесном и живом общении с ним, в том, что мы всегда имеем его перед глазами и в сердце своем и, проникнутые величайшей любовью к нему, обращаем в то же самое время сердце наше к нашим братьям, которых он теснее связал с нами, за которых он также принес себя в жертву. .. Таким образом, единение с Христом дает радость, которую эпикуреец напрасно стал бы искать в своей поверхностной философии».
.. Таким образом, единение с Христом дает радость, которую эпикуреец напрасно стал бы искать в своей поверхностной философии».
Эти благочестивые рассуждения принадлежат не кому-нибудь, а Карлу Марксу. Они взяты из его выпускного гимназического сочинения, написанного на тему «Единение верующих с Христом по евангелию от Иоанна». Будущему основоположнику научного коммунизма и не менее научного атеизма на момент окончания гимназии в 1835 году было 17 лет.
Мы можем только строить предположения, был ли юноша Маркс искренен в своем сочинении, или он писал так потому, что ему просто надо было получить аттестат зрелости и дальше поступать в университет. В любом случае на себя обращает внимание то, что в сочинении практически не затрагиваются догматические основания единения верующих со Христом. О христианстве говорится преимущественно как об определенной нравственной концепции. Некоторые исследователи формирования марксизма как учения в связи с этим говорят, что уже по этому сочинению можно увидеть начало отхода Маркса от религии.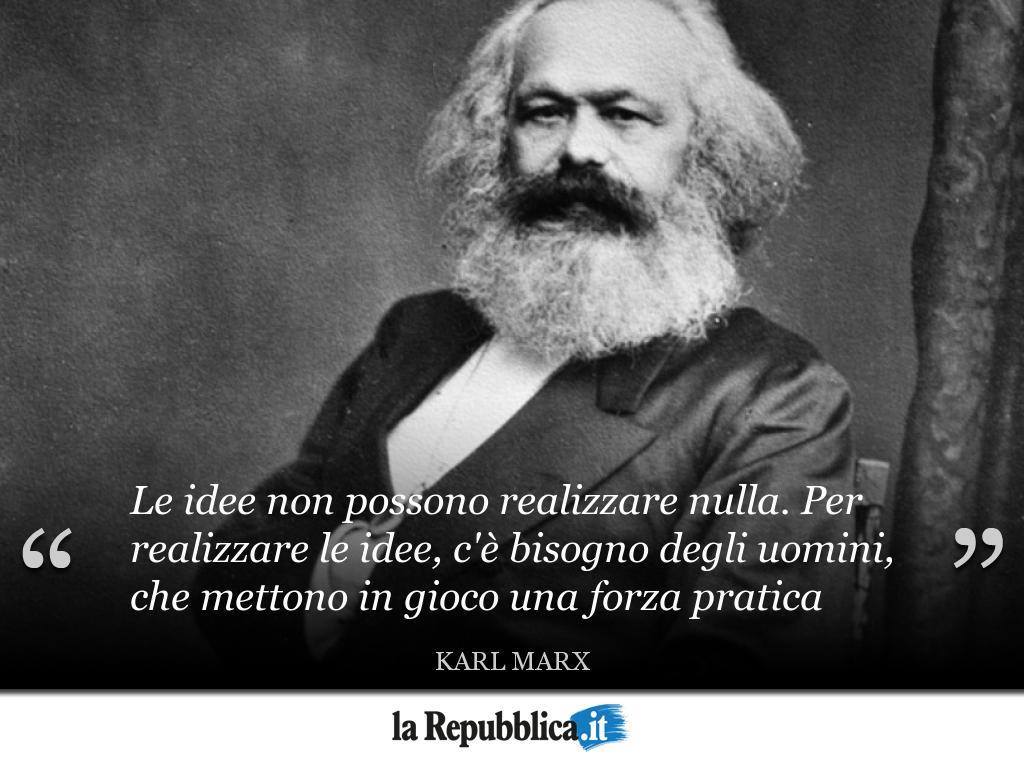 Действительно, нравственность без догматики – вещь довольно ненадежная.
Действительно, нравственность без догматики – вещь довольно ненадежная.
«Вот что бывает, когда еврей отрывается от синагоги»
Между тем маленького Карла крестили в христианскую веру только в шестилетнем возрасте. Дело в том, что и его мать, и его отец происходили из семей потомственных раввинов. Дед по отцу, нрапример, был трирским раввином (Трир – родной город Маркса). Впрочем, Генрих Маркс еще в юности решительно порвал с родным домом и, несмотря на одиночество и бедность, упорным трудом получил хорошее светское образование и стал успешным адвокатом. По убеждениям он был типичным сыном века Просвещения, поклонником Руссо и Вольтера. В 1815 году, когда Трир и вся Рейнская область вновь отошли Пруссии, прусский король издал указ, чтобы в бывших французских областях всех евреев отстранили от государственных должностей. Отцу Карла Маркса запретили заниматься адвокатурой. Тогда Генрих Маркс перешел в лютеранство, но детей крестить не стал. Он боялся своей семидесятилетней матери, потомка многих поколений раввинов.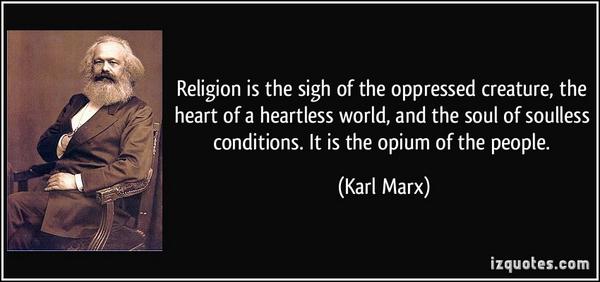 Лишь после ее смерти в 1824 году и все дети советника юстиции Генриха Маркса перешли в христианскую веру.
Лишь после ее смерти в 1824 году и все дети советника юстиции Генриха Маркса перешли в христианскую веру.
Можно предположить, что на бурный, квазирелигиозный темперамент и характер основоположника марксизма повлияло и его происхождение, сформированное долгими поколениями раввинов, толкователей Торы и Талмуда и вождей иудейских религиозных общин. Как однажды иронично выразился в адрес своего оппонента – российского политика, атеиста и сугубо светского еврея один из лидеров российского религиозного еврейства – «вот что бывает, когда еврей отрывается от синагоги. Друг, лучше вернись в синагогу обратно!».
Годы бури, натиска и духовной смуты
Итак, 1835 год – год окончания гимназии Марксом и его поступления в Боннский университет. И это же год выхода в свет книги немецкого теолога Давида Штрауса «Жизнь Иисуса». Автор специально подчеркивал, что его книга – это биография Иисуса, просто человека, но не Христа – потому что имя «Христос» является уже религиозной характеристикой.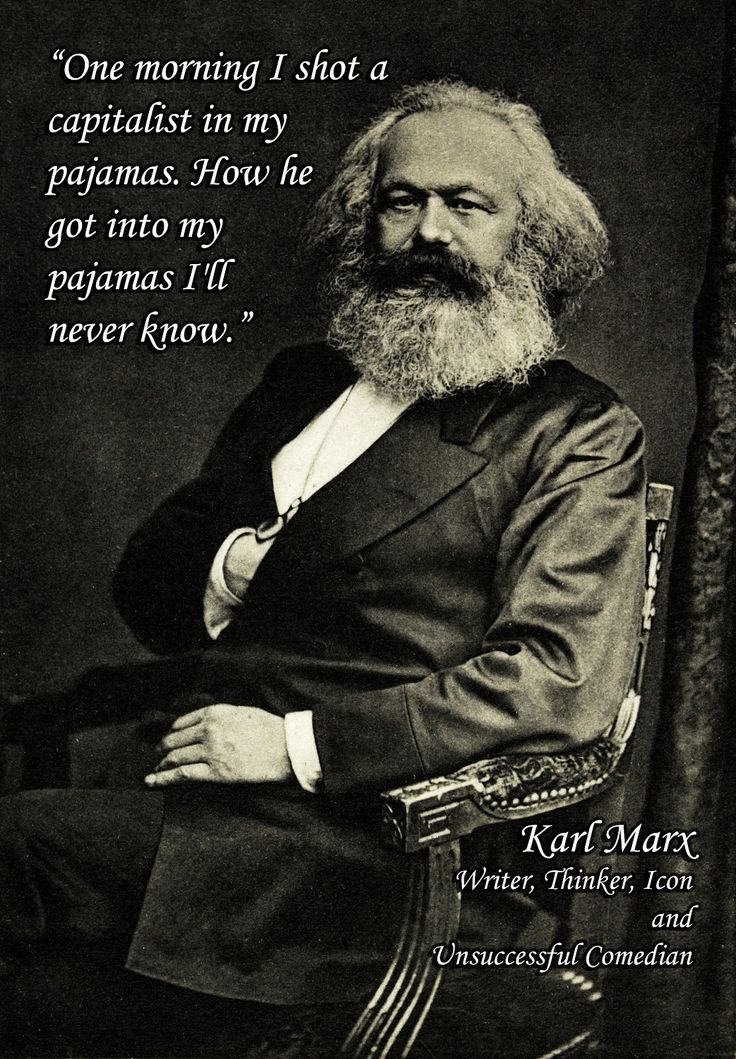 Штраус первый использовал гегелевскую философию для целей критики религии. Его книга положила начало движению младогегельянцев, которые сделали из философии Гегеля атеистические выводы. «Жизнь Иисуса» сильно повлияла на часть немецкой интеллигенции, открыла дорогу ее радикализации и ожесточенной борьбе с религией. Для Штрауса, например, евангельские рассказы – это мифы, сложившиеся в недрах первых христианских общин.
Штраус первый использовал гегелевскую философию для целей критики религии. Его книга положила начало движению младогегельянцев, которые сделали из философии Гегеля атеистические выводы. «Жизнь Иисуса» сильно повлияла на часть немецкой интеллигенции, открыла дорогу ее радикализации и ожесточенной борьбе с религией. Для Штрауса, например, евангельские рассказы – это мифы, сложившиеся в недрах первых христианских общин.
К младогегельянцам принадлежал сначала и молодой Карл Маркс. Интересно, что он, как и его будущий соратник Ф. Энгельс, сначала был атеистом и революционным демократом, оставаясь при этом идеалистом. Материалистом и коммунистом Маркс станет лишь позже. Формирование этих молодых людей, их идейные поиски и смена мировоззрений были стремительными и бурными. И очень многое было завязано именно на религиозную проблематику. Так у Фридриха Энгельса (в его школьной характеристике было написано, что в гимназии он выделялся «религиозностью, чистотой сердца, благонравием и другими привлекательными свойствами») в его письмах к братьям Греберам (1838 – 1841 гг.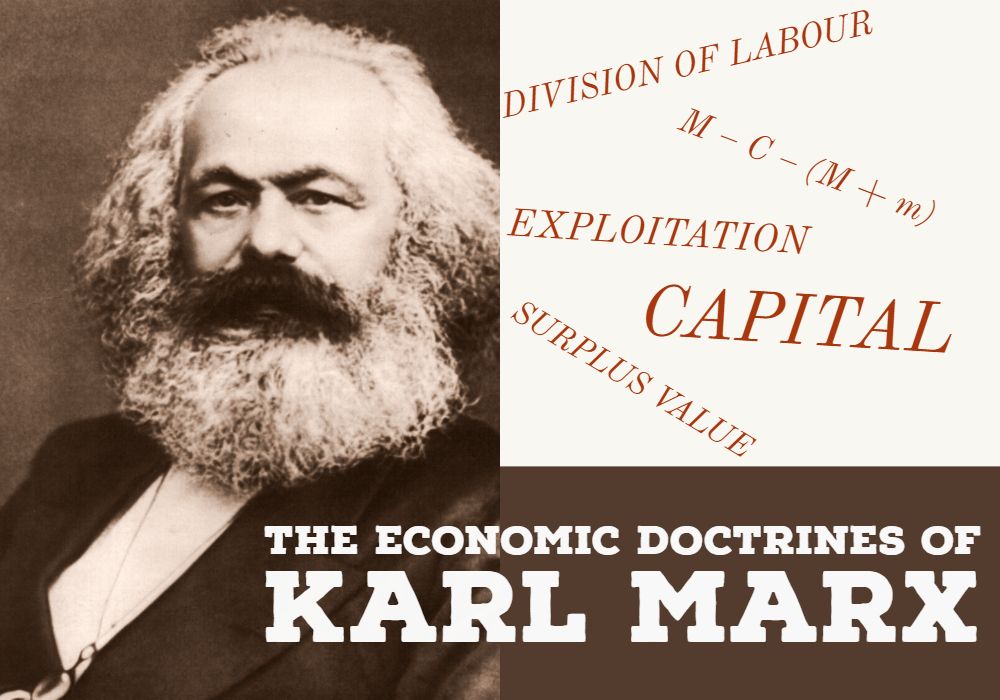 ) – очень ценном источнике для изучения раннего этапа духовного развития Энгельса – вопрос об отношении к религии занимает главное место.
) – очень ценном источнике для изучения раннего этапа духовного развития Энгельса – вопрос об отношении к религии занимает главное место.
Еще в 1837 году (Ф. Энгельс родился 28 ноября 1820 года) он пишет стихотворение:
Спустись, о Божий сын, Христос,
Я жду тебя в юдоли слез,
О, унеси все беды!
Позже впитанная в детстве вера вступила в противоречие со все более усваиваемыми рационалистическими принципами. Он пишет Греберам через два года: «Я молюсь ежедневно, даже почти целый день об истине; я стал так поступать с тех пор, как начал сомневаться, и все-таки я не могу вернуться к вашей вере; а между тем, написано: просите и дастся вам. У меня выступают слезы на глазах, когда я пишу это, я весь охвачен волнением, но я чувствую, что не погибну; я вернусь к Богу, к которому стремится все мое сердце».
Но каким же стремительным (и по-своему логичным) было его идейное развитие! Судя по его переписке еще в июле 1839 года он – поклонник философии религии Шлейермахера, и считает, что «религия – дело сердца». В октябре 1839-го он уже «восторженный штраусианец». Через месяц, в ноябре, он пишет: «Я как раз на пороге того, чтобы стать гегельянцем». А еще через месяц он приписывает Гегелю свои уже атеистические воззрения, говоря, что, согласно гегелевской философии, «человечество и божество по сути тождественны».
В октябре 1839-го он уже «восторженный штраусианец». Через месяц, в ноябре, он пишет: «Я как раз на пороге того, чтобы стать гегельянцем». А еще через месяц он приписывает Гегелю свои уже атеистические воззрения, говоря, что, согласно гегелевской философии, «человечество и божество по сути тождественны».
Критика неба становится критикой земли
Так или иначе, путь к материалистической философии Марксу и Энгельсу проложил радикальный разрыв с религией, осуществленный еще в рамках младогегельянского движения. Он предшествует их и философскому, и политическому самоопределению. Маркс пошел дальше своих бывших соратников по левому гегельянству (Б. Бауэр, А. Руге), по ходу дела безжалостно разрывая сложившиеся дружбы и личные отношения, раз между друзьями больше нет былого идейного единства. Такая установка (политические взгляды выше интересов личной дружбы) вообще очень характерна для идейных революционеров. Почти через тридцать лет эту установку доводит почти до абсурда в знаменитом «Катехизисе революционера» Сергей Нечаев (послуживший прототипом Петра Верховенского в «Бесах» Достоевского):
«Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционерным делом, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции».
Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции».
Принято говорить, что Маркс не так уж плохо относился к религии, считая ее «сердцем бессердечного мира». Действительно, он пишет:
«Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». («К критике гегелевской философии права. Введение»).
Но все же не надо закрывать глаза на то, что основоположник научного атеизма был убежденнейший и последовательнейший противник религии. Например, в своей докторской диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (1841 год) 23-летний Маркс, еще будучи идеалистом, резко противопоставляет философию и религию, отождествляя первую с разумом, а вторую – с неразумием. Он пылко говорит в «Введении»:
Он пылко говорит в «Введении»:
«Философия, пока в ее покоряющем весь мир, абсолютно свободном сердце бьется хоть одна еще капля крови, всегда будет заявлять – вместе с Эпикуром – своим противникам: “Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах ”. Философия этого не скрывает. Признание Прометея
По правде, всех богов я ненавижу
есть ее собственное призвание, ее собственное изречение, направленное против всех небесных и земных богов, которые не признают человеческое самосознание высшим божеством. Рядом с ним не должно быть никакого божества… Прометей – самый благородный святой и мученик в философском календаре».
Маркс на самом деле гораздо более умный и хитрый критик религии, чем французские просветители или младогегельянцы. Первые простодушно считали, что религия произошла от встречи дурака с мошенником. Вторые же думали, что религию, Церковь и «христианское государство» можно уничтожить силой одной интеллектуальной критики, что с ними можно справиться лишь посредством духовной, умственной борьбы.
Маркс тоже считает религию крайне вредным делом, ведь она «священный образ человеческого самоотчуждения», поскольку оправдывает и санкционирует по его мнению несправедливость и неразумность этого мира. Но она для Маркса не причина, как для младогегельянцев, а следствие этой неразумности. Это превратный и несправедливо устроенный мир, в котором человек потерял и не обрел самого себя, порождает религию. Посредством веры в Бога и посмертное воздаяние человек убаюкивает и успокаивает самого себя, примиряется с ужасами посюстороннего, единственно действительного мира. Поэтому религия и есть по Марксу опиум народа, его духовная услада.
Так что, считает он, чтобы устранить религию, сначала надо сделать разумным мир, перестроить его на справедливых началах. А это требует практических усилий, действий народных масс, революции – не на бумаге и в умах критических критиков, как для младогегельянцев, а в действительности. Это требует баррикад, восстаний, гражданской войны, диктатуры пролетариата. Так по Марксу «критика неба превращается в критику земли, критика религии – в критику права, критика теологии – в критику политики». Так что
Так по Марксу «критика неба превращается в критику земли, критика религии – в критику права, критика теологии – в критику политики». Так что
«упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своём положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в зародыше критика той юдоли плача, священным ореолом которой является религия». («К критике гегелевской философии права. Введение»).
Что общего в марксизме с религией, или о православных коммунистах
Однако что в Марксе и марксизме было от религии, своего рода превращенной религиозной формой, так это страстное стремление к преображению жизни, к тому, чтобы теория и практика стали единым целым, чтобы философия стала совершенно мирской, а мир – полностью разумным. Категорическое неприятие зла и страданий в мире, требование нерелигиозного воскресения жизни «здесь и сейчас», на Земле, порождает неприятие традиционной философии как абстрактного умствования, не имеющего отношения к реальному миру.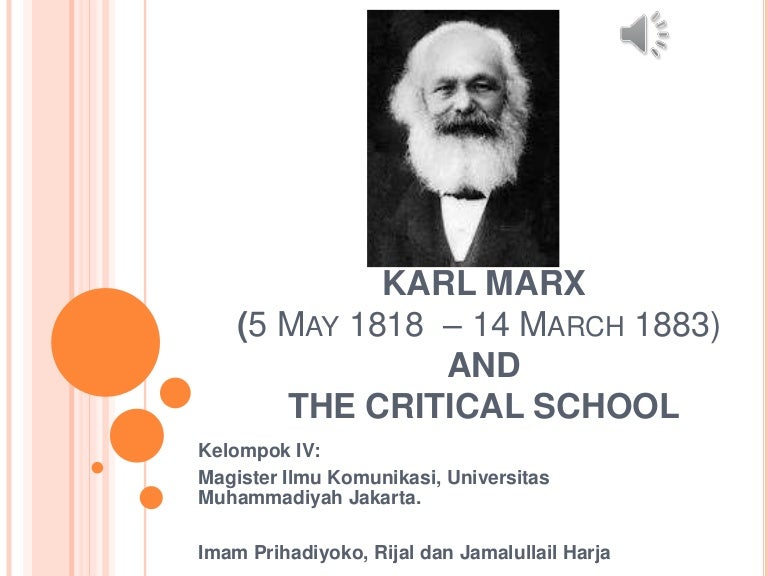 Поэтому Маркс и говорит в своих «Знаменитых тезисах к Фейербаху», что «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».
Поэтому Маркс и говорит в своих «Знаменитых тезисах к Фейербаху», что «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».
Получается, что Маркс в каком-то смысле перенес на здешний, посюсторонний мир, вложил в него свои скрытые религиозные стремления, раз стал считать, что он может стать столь же гармоничным, как Рай, что Неба стоит искать здесь, на Земле. Пусть он утверждает, что религия «не причина мирской ограниченности, а лишь ее проявление», и что ее возникновение и господство объясняются тем, что этого требует превратно устроенный мир. Но марксизм в своих исходных установках превратно религиозен. На место Бога, подвергшего Себя предельному умалению, истощению и смерти, в марксизме становится самый неимущий и нищий класс, пролетариат, который путем радикальной революции приобретет все, и тогда последние станут первыми. Пролетарский интернационализм становится на место «во Христе нет ни эллина, ни иудея», а коллективизм и классовая солидарность на место братской любви.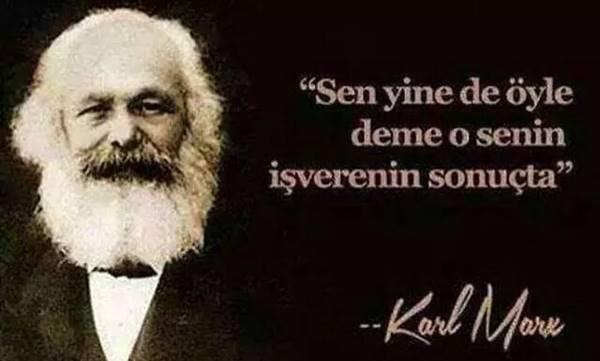
Как вспоминает политолог Федор Бурлацкий, один из авторов «Морального кодекса строителей коммунизма» (его приняли на 22 съезде КПСС в 1961 году), при написании кодекса «мы стали фантазировать. Один говорит “мир”, другой ― “свобода”, третий ― “солидарность”… Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа, тогда все действительно «ляжет» на общественное сознание… Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст, который в Президиуме ЦК прошёл на “ура”».
Сейчас, через 20 лет после гибели СССР, стали встречаться люди, которые называют себя православными коммунистами, что, конечно, является химерическим понятием. Они говорят, что для них равно приемлемы Христос и Ленин, что они их уважают в равной степени. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждал, что первым коммунистом был Иисус Христос, и что Нагорная проповедь написана не хуже «Морального кодекса строителя коммунизма»: «Если вы возьмете Моральный кодекс строителя коммунизма и Нагорную проповедь Иисуса Христа и положите рядом, то вы ахнете: они совпадают полностью по тексту».
Это, конечно, не так. Главное, что язык Нового Завета и Нагорной проповеди не знает проповеди и призывов к ненависти и вражде к людям. См., например, 11-ый пункт «Морального кодекса»: «Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов». Маркс решил бороться с земной несправедливостью земными же средствами, уничтожить ее на практике. А это радикально исказило какие-то исходные нравственные установки в человеке, привело к культивированию ненависти и огромному насилию.
Сложность советского проекта, то, что общественное сознание в нашей стране до сих пор не может определиться в своем к нему отношении и ходит по замкнутому кругу, объясняется тем, что он содержал в себе религиозные цели в их превращенном и извращенном виде. Добро и зло слились тут в каком-то неразрывном симбиозе. Советский мир был одновременно и человечнее, и бесчеловечнее того мира, в котором мы живем сейчас. Несмотря на всю привлекательность многих его моментов и черт (стремление к равенству и демократичности, очень высокая оценка культуры и образования, забота о детстве и др. ), все же необходимо признать, что нельзя человечность и гуманизм приобретать за счет бесчеловечности, пользуясь ею. Вспоминая пролитые реки крови в революцию и Гражданскую войну, или жестокую коллективизацию, хочется сказать: вот что бывает, когда христиане отрываются от Церкви. Лучше бы всем сегодняшним православным коммунистам, да и всем безусловным поклонникам советского проекта просто обратно вернуться в Церковь.
), все же необходимо признать, что нельзя человечность и гуманизм приобретать за счет бесчеловечности, пользуясь ею. Вспоминая пролитые реки крови в революцию и Гражданскую войну, или жестокую коллективизацию, хочется сказать: вот что бывает, когда христиане отрываются от Церкви. Лучше бы всем сегодняшним православным коммунистам, да и всем безусловным поклонникам советского проекта просто обратно вернуться в Церковь.
Фото анонса: Wolfgang Sauber, Mexico City — Palacio Nacional. Mural by Diego Rivera showing the History of Mexico: Detail showing Karl Marx.
Кто придумал опиум для народа — Российская газета
11 октября 1922 года Лев Троцкий, выступая на открытии V съезда ВЛКСМ, призвал молодежь грызть гранит науки. Фраза стала крылатой. Мы собрали другие легендарные выражения и обстоятельства, при которых они были произнесены.
Религия — опиум для народа
Эту фразу приписывают Владимиру Ленину, хотя впервые выражение «Религия есть опиум народа» употребил Карл Маркс в работе «К критике гегелевской философии права», опубликованной в 1844 году. Сравнение религии с опиумом Маркс позаимствовал у христианского социалиста Чарльза Кингсли — тот, правда, имел в виду не одурманивающее, а успокаивающее действие наркотика.
Сравнение религии с опиумом Маркс позаимствовал у христианского социалиста Чарльза Кингсли — тот, правда, имел в виду не одурманивающее, а успокаивающее действие наркотика.
Ленин использовал афоризм Маркса в статье «Социализм и религия» 1905 года и повторил (со ссылкой на автора) в статье «Об отношении рабочей партии к религии», опубликованной в 1909 году.
Вряд ли выражение стало бы таким популярным, если бы не роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», где фраза приведена в знакомом нам виде — во время конфликта с отцом Федором Остап Бендер спрашивает у священника: «Почем опиум для народа?»
Грызите гранит науки
Полностью слова Троцкого звучали так: «Я обращаюсь к вам и через вас ко всем наиболее чутким, наиболее честным, наиболее сознательным слоям молодого пролетариата и передового крестьянства с призывом: учитесь, грызите молодыми зубами гранит науки, закаляйтесь и готовьтесь на смену!»
Фраза понравилась самому оратору и он не раз повторял ее в своих речах.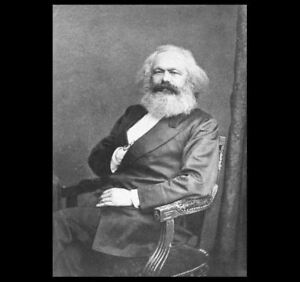 В Абакане, Белгороде и Чебоксарах открыты памятники граниту науки. На Белгороде и в Хакасии это испещренные формулами кубы, в Чувашии — двухтонная глыба.
В Абакане, Белгороде и Чебоксарах открыты памятники граниту науки. На Белгороде и в Хакасии это испещренные формулами кубы, в Чувашии — двухтонная глыба.
Жить стало лучше, жить стало веселее
Констатировал Иосиф Сталин, выступая в 1935 году на всесоюзном совещании стахановцев. В том же году Василий Лебедев-Кумач написал одноименную песню. Парафразой сталинских слов начинается кинокомедия «Кавказская пленница»: «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше!»
Отец Кузькиной матери
Известным острословом был Никита Хрущев. Во время осмотра американской выставки в Сокольниках в 1959 году руководитель СССР сказал вице-президенту США Ричарду Никсону: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия. Мы вам еще покажем кузькину мать!» Переводчик в замешательстве перевел последние слова как «Мы вам покажем мать Кузьмы». Американцы были ошарашены: русские придумали новое оружие, еще сильнее ядерного?!
Хрущев о политиках: «Политики везде одинаковы: они обещают построить мост там, где и реки-то нет»
В СССР секса нет
В 1986 году во время телемоста Ленинград-Бостон «Женщины говорят с женщинами» американская участница задала вопрос: «У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?» Администратор гостиницы «Ленинград» и представительница Комитета советских женщин Людмила Иванова ответила: «Секса у нас нет и мы категорически против этого!»
Есть ли у вас такая телереклама?» Администратор гостиницы «Ленинград» и представительница Комитета советских женщин Людмила Иванова ответила: «Секса у нас нет и мы категорически против этого!»
Аудитория расхохоталась и одна из советских участниц уточнила: «Секс у нас есть, у нас нет рекламы!»
Хотели как лучше, а получилось как всегда
Афоризмов Виктора Черномырдина хватит на несколько поколений юмористов. Приведенную выше фразу он произнес на пресс-конференции, посвященной денежной реформе 1993 года. Вот еще несколько его изречений, пошедших в народ: «Лучше водки хуже нет», «что ни делаем, получается КПСС, либо автомат Калашникова», «Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу».
Неужели забыли, что религия — опиум народа?
Воскресная колонка филолога Гасана Гусейнова о «формулах неприятия», за которыми «человек прячет от себя отчаянье, вызванное беспомощностью перед жестокостью мира», о «запретных темах», а также об отказе «приверженцев религиозных доктрин, которые прямо требуют милости к падшим, любви и прощения, от этой своей небывалой привилегии» и их готовности «стать винтиками карательной машины».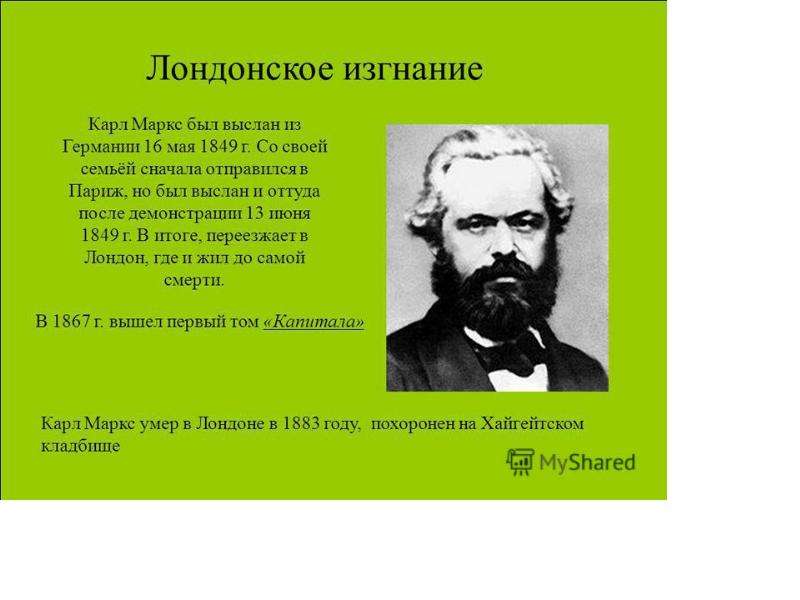
Есть речения, в которые не верят и сами говорящие. Вы все их знаете. «Уму непостижимо!»
«Это невероятно!»
«Я не смогу с этим смириться!»
Нет числа этим речениям.
Правда, и высказывание «нет числа этим речениям» само — из разряда таких вот пустых речений. Что означают такие сильные выражения? Во-первых, недисциплинированность говорящего. Вместо того, чтобы разобраться, что к чему, и попытаться о нем сказать, говорящий «уму непостижимо!» оправдывается форс-мажорными обстоятельствами: раз уму непостижимо, так чего ж ждать от меня даже и попытки его понять.
Во-вторых, у таких высказываний есть что-то общее: они обычно на устах у людей умеренных, не склонных к резким суждениям. Такие люди привычно осаживают людей крайних взглядов. Они стараются вести здоровый образ жизни, но тоже без излишеств. В-третьих, самих себя большинство людей считают нормальными, а потому с языком — штукой, придуманной безумцами с изрядной помощью высших и низших начал (и мелких начальников вроде черта или, скажем, Адама и Евы), — с языком у них отношения, как у капризного барина с дворовой девкой.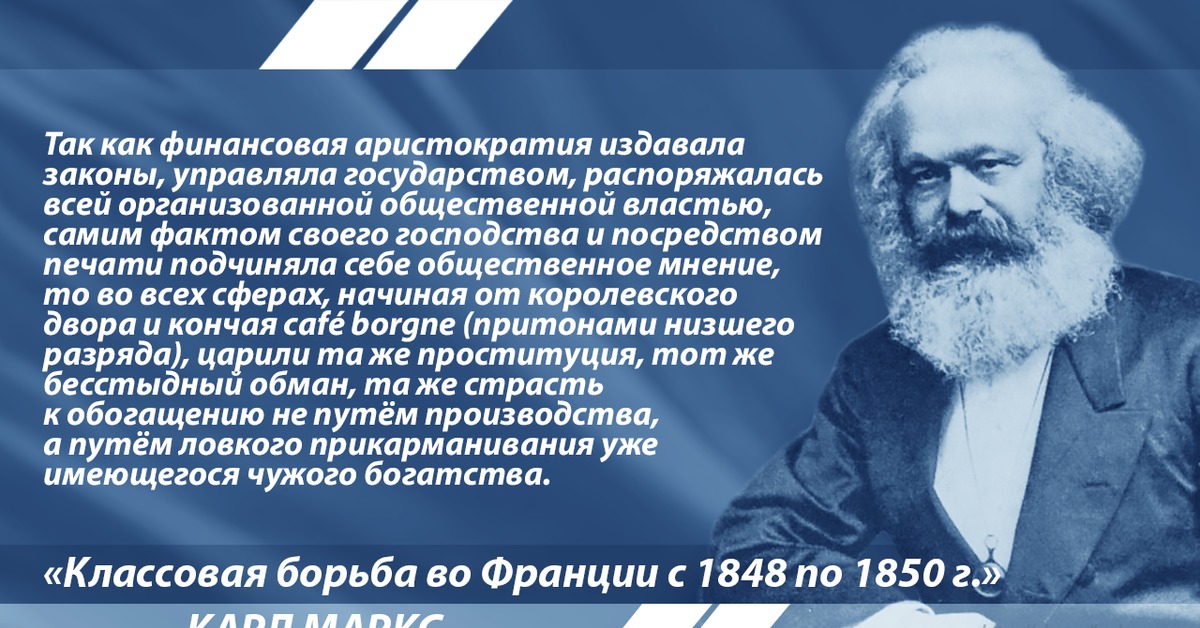 Так в старину по-русски называли рабыню («крепостную» или служанку низшего пошиба). Барин позволяет что-то своей дворовой девке в обмен на оказываемые услуги, но как личность ее не ценит и всегда сам лучше знает, как и что той следует делать, думать и говорить.
Так в старину по-русски называли рабыню («крепостную» или служанку низшего пошиба). Барин позволяет что-то своей дворовой девке в обмен на оказываемые услуги, но как личность ее не ценит и всегда сам лучше знает, как и что той следует делать, думать и говорить.
Вот почему, говоря «это невозможно себе представить» или даже скромное «нет слов, чтобы передать то-то и то-то» (обычно, кстати, какие-то слова все-таки находятся), так вот, говоря, что «что-то уму непостижимо», человек на самом деле высказывает две-три противоположные мысли.
Во-первых, он объявляет, что не в состоянии объяснить, например, чей-то поступок.
Во-вторых, он объявляет, что все прекрасно понимает, и даже до такой степени понимает, что испытывает гнев и отвращение к тем, кто понимает этот чей-то ужасный поступок иначе.
В-третьих, однако, человек, объявивший нечто «уму непостижимым», «невероятным» или «невозможным», публично расписывается в том, что и не собирается во всем этом разбираться.
В буквальном смысле слова в сознании такого человека просыпаются Лебедь, Рак и Щука.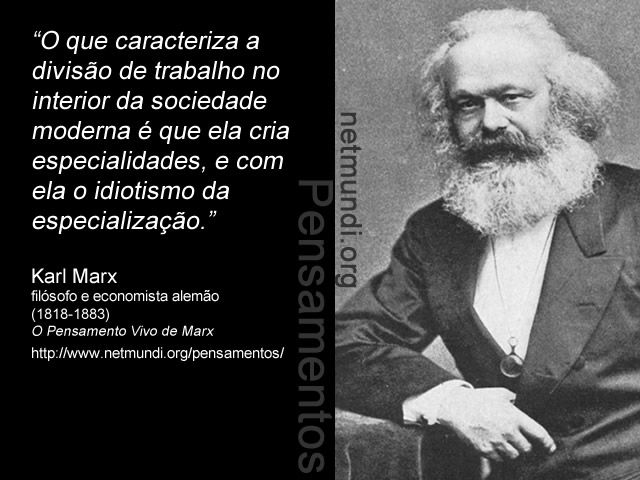 Лебедь хочет воспарить над этим бренным миром, Рак — отползти от него на безопасную глубину, а Щука — проглотить или на худой конец покусать всякого, кто с нею осмелился не согласиться.
Лебедь хочет воспарить над этим бренным миром, Рак — отползти от него на безопасную глубину, а Щука — проглотить или на худой конец покусать всякого, кто с нею осмелился не согласиться.
Это состояние сознания можно понять как отчаянье, вызванное беспомощностью перед жестокостью мира. Человек прячет от себя это отчаянье. Он хотел бы быть свободным и сильным. Но вот не получается. Для таких-то случаев жизни создатель языка и подбросил ему формулы неприятия.
«Не может быть!» «Нешто такое возможно!» «Я просто отказываюсь это понимать!»
Вот, например, повсеместное сквернословие. Ах, да как они могут! А культура? А моя бабушка? Или наркотики. Вообще, говорящий это слово, «наркоман», произносит самый настоящий приговор. Минуя множество жизненных фаз, через которые волей-неволей проходит человек, произнося слово «наркоман», мы решительно отсекаем того, о ком говорим, от этого мира. Вот пристрастился некто по тем или иным причинам к веществам, а потом не сумел из этой первой фазы выпутаться. Уже и помощь нужна, но как может ему помочь общество, язык которого априорно объявляет этого своего члена изгоем?
Уже и помощь нужна, но как может ему помочь общество, язык которого априорно объявляет этого своего члена изгоем?
Но праведный враг наркотиков выше этого: он ведь знает всю адскую цепочку, весь этот колумбийский Афганистан, да еще и из школы и вузов доносится запах. Наркофобов парадоксально удерживает от насилия текущее законодательство, запрещающее рекламу употребления наркотиков. В результате высказывание «уму непостижимо!» приобретает дополнительный трагикомический подтекст: мне нельзя об этом говорить, граждане, посодють. Высказаться хочется, хочется описать глубину падения и способы избавления от бездны. Но опасно. Вот и приходится орать «уму непостижимо!»
Так вышло, что все главные темы нашей быстротекущей жизни оказались запретными. Нельзя говорить о наркотиках, потому что это будет пропаганда наркотиков. Нельзя говорить об истоках террора, потому что это будет пропаганда террора. Нельзя говорить о феминитивах, потому что ты, стало быть, за порчу языка и идеологическую цензуру.
Не говорю уже о том, что нельзя говорить, например, о религии то, что из поколения в поколение вдалбливалось в советских людей, но так до них и не дошло. «Религия — это опиум народа» — Карл Маркс повторил формулу не то немецкого романтика Новалиса, не то забытого ныне английского социолога. Опиаты влекут к себе, оглушают, снимают боль, но делают это, по словам Новалиса, «из слабости». Одурманенный религией человек уверен, что нашел, наконец, главное утешение, и что бы с ним ни случилось, бог не оставит его.
Но, к глубокому сожалению, почти все религии нуждаются в священнослужителях, которые не сеют и не жнут, а более или менее усердно как раз и одурманивают свою паству — утешают ее, помогают ей, зачаровывают ее. Вся компания страшно рискует — священнослужитель может втянуться в утешение из слабости и не только душевно прикипеть к очарованным, но и прильнуть к ним телесно. Человеческая слабость, охватывающая в таких случаях священнослужителей, делает их столь беспомощными, что они не могут устоять перед витальностью даже ребенка.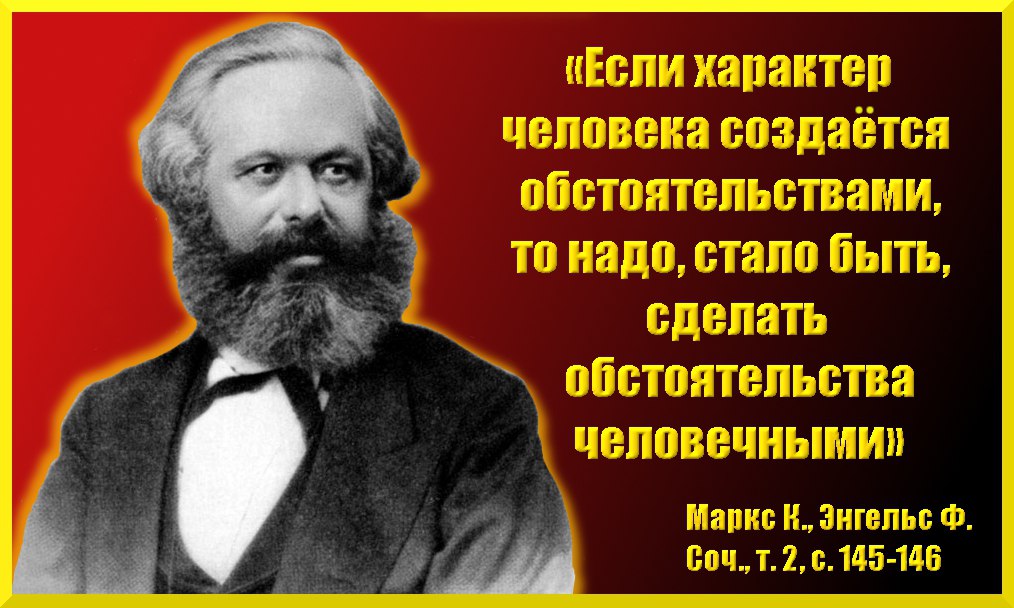 Нет конфессии, которая была бы свободна от священнослужителей-педофилов. В прежние годы и столетия телесная близость пастыря и овечки не считалась и не казалась преступлением. Но времена изменились. 7 августа 2021 года газета «Таймс оф Индия» опубликовала отчет о процессе над 76-летним священнослужителем (конфессия не имеет значения).
Нет конфессии, которая была бы свободна от священнослужителей-педофилов. В прежние годы и столетия телесная близость пастыря и овечки не считалась и не казалась преступлением. Но времена изменились. 7 августа 2021 года газета «Таймс оф Индия» опубликовала отчет о процессе над 76-летним священнослужителем (конфессия не имеет значения).
Два обстоятельства обращают на себя внимание. Первая — удивление судьи: обвиняемый и осужденный священнослужитель не испытал ни малейшего раскаянья в содеянном. Вторая — мнение судьи, что оба подвергнутых сексуальному насилию ребенка шли в храм в поисках надежной защиты. И вот теперь, дескать, они на всю жизнь напуганы страшным опытом. И священнослужитель теперь до конца своих дней отправлен за решетку.
«Уму непостижимо — не испытывает раскаянья!»
«Уму непостижимо — девочки искали в храме защиту от земного зла!»
Как выражались лет двадцать назад, не знаю, какую траву курил судья. Очевидно, он принимает за чистую монету демагогию религиозных деятелей, к которым безвременно отупевшие родители ведут своих пока еще открытых миру детей для духовного окормления.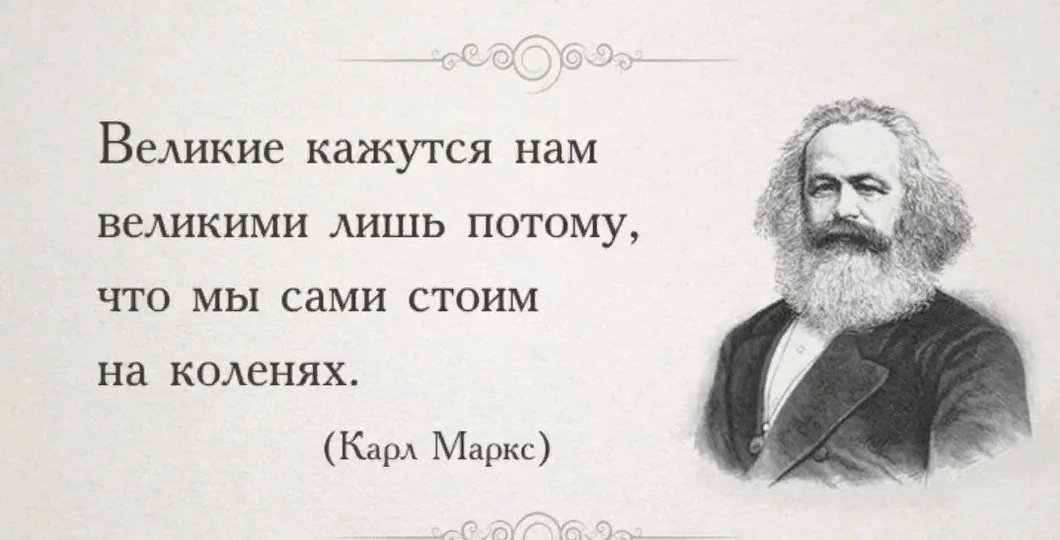 Отказываются от первейшего родительского долга и ведут к какому-то дядьке, которого ребенок почему-то должен называть «батюшкой», «гуру» или еще как-то. Детские психологи вам расскажут, что единственная роль, которую родители не могут делегировать посторонним, это роль родительская. А тут — бац! — оказывается, в «храме» ребенок должен чувствовать себя лучше, приютнее, под большей защитой, чем в семье, под крышей дома своего.
Отказываются от первейшего родительского долга и ведут к какому-то дядьке, которого ребенок почему-то должен называть «батюшкой», «гуру» или еще как-то. Детские психологи вам расскажут, что единственная роль, которую родители не могут делегировать посторонним, это роль родительская. А тут — бац! — оказывается, в «храме» ребенок должен чувствовать себя лучше, приютнее, под большей защитой, чем в семье, под крышей дома своего.
Большинству, возможно, везет, и дело ограничивается только психическим насилием. Но есть и такие, кому пришлось испытать на себе и действие, описываемое в разных языках известными глаголами на «е» и «f». Происхождение их очень древнее, а письменные источники в Европе сразу выводят на след монаха или епископа, которому и полагается обращаться с доверчивой паствой именно так. Всех, конечно, не оприходуешь, особенно в большом приходе. Но крепкий телом и духом священнослужитель чувствует себя в своем праве: это просто его работа. А вовсе не то, что вы думаете, когда вопите «уму непостижимо». Постижимо, постижимо. Не надо вкуривать что попало, и все станет на свои места.
Постижимо, постижимо. Не надо вкуривать что попало, и все станет на свои места.
А вдруг священнослужитель наш ни в чем не виноват? И раскаянья не испытывает как раз потому, что никакого преступления не совершал? А стал, например, жертвой оговора? Вообще, когда государство-арбитр выбирает поле для работы, любой разговор превращается в обсуждение чьих-то преступлений, а потенциальными преступниками становятся все. Разумеется, кроме государства и его пенитенциарной системы. На этом печальном фоне приверженцы религиозных доктрин, которые прямо требуют милости к падшим, любви и прощения, отказываются от этой своей небывалой привилегии, и готовы стать винтиками карательной машины.
Непостижимо, но факт: религия — опиум народа!
Рустем Вахитов Критика религии у Карла Маркса
Если эти граждане марксисты, то я не марксист
Карл Маркс
1.
Чрезвычайный интерес и актуальность представляет рассмотрение марксовой критики религии, посредством обращения к самим первоисточникам.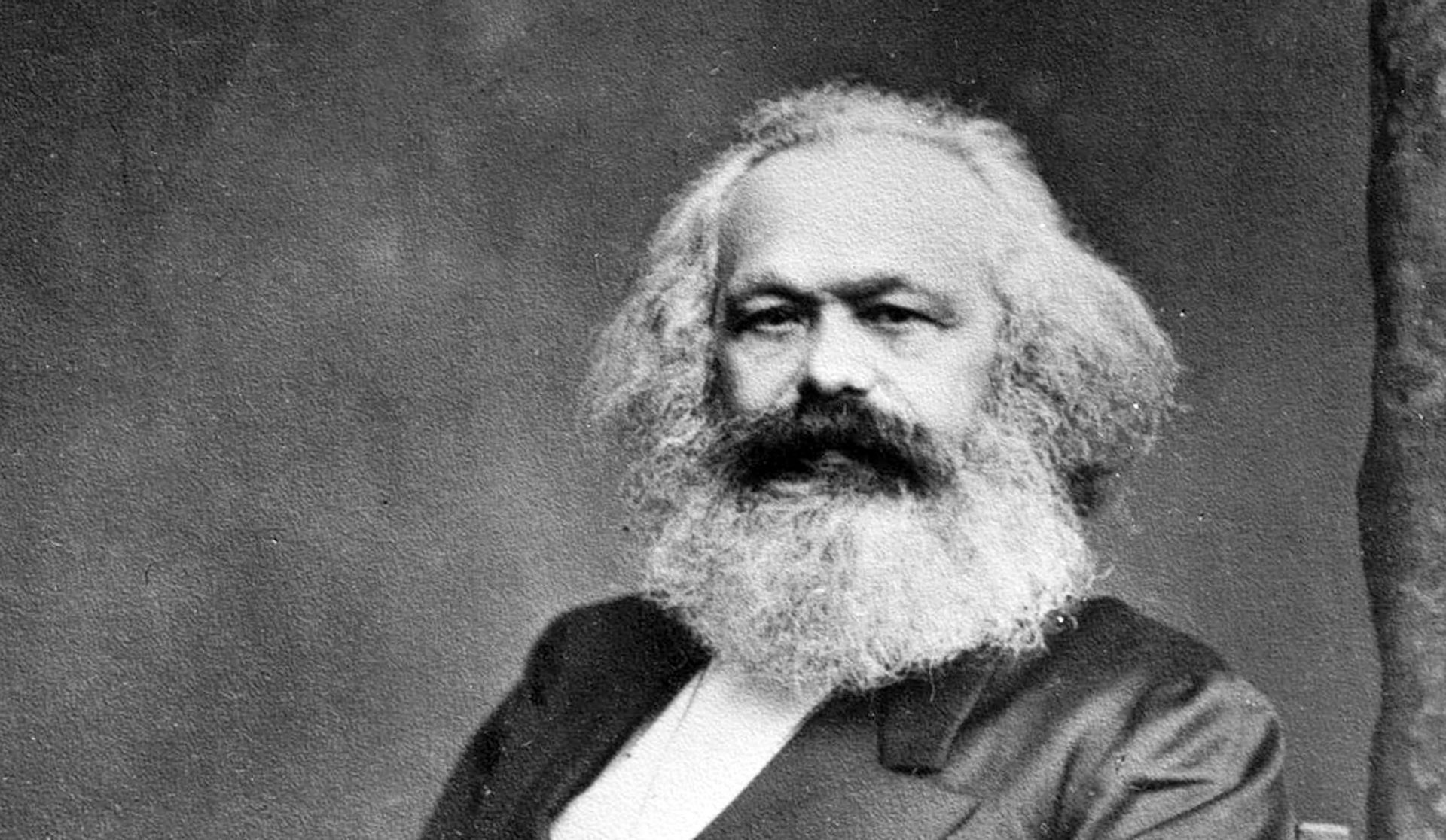 Как это не парадоксально, но в стране, где еще совсем недавно труды Маркса заставляли конспектировать всех школьников старших классов и студентов, а полные собрания сочинений Марса и Энгельса стояли во всех библиотеках на свободном доступе, подлинное знание и понимание Маркса было и остается редкостью. Когда сегодня видишь по ТВ выступления вчерашних главных идеологов марксизма-ленинизма вроде А. Яковлева, то хочется сквозь землю провалится от стыда настолько их нападки на марксизм обличают их полнейшее невежество и предвзятость. Никто и не сомневается, что, допустим, господин Яковлев, когда он был еще товарищем Яковлевым, читал «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал», но вся беда в том, что читал-то он их сквозь очки вульгарного истмата советских учебников, весьма далекого от подлинного «марксизма Маркса».
Как это не парадоксально, но в стране, где еще совсем недавно труды Маркса заставляли конспектировать всех школьников старших классов и студентов, а полные собрания сочинений Марса и Энгельса стояли во всех библиотеках на свободном доступе, подлинное знание и понимание Маркса было и остается редкостью. Когда сегодня видишь по ТВ выступления вчерашних главных идеологов марксизма-ленинизма вроде А. Яковлева, то хочется сквозь землю провалится от стыда настолько их нападки на марксизм обличают их полнейшее невежество и предвзятость. Никто и не сомневается, что, допустим, господин Яковлев, когда он был еще товарищем Яковлевым, читал «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал», но вся беда в том, что читал-то он их сквозь очки вульгарного истмата советских учебников, весьма далекого от подлинного «марксизма Маркса».
Это имеет и прямое касательство к названному вопросу марксовой критики религии. Любой более или менее честный интеллектуал, независимо от его позиции по отношению к религии, должен, наверное, открыв сегодня книги Маркса, поразиться тому ужасающему несоответствию между марксовым пониманием религии и тем вульгарным «воинствующим безбожием», которое безраздельно господствовало в СССР до 30-х годов, а затем, после смерти Сталина и снова подняло голову. При этом прямо по закону диалектики о совпадении противоположностей, критика марксистского атеизма многими современными религиозными фундаменталистами, увы, до боли напоминает те же тезисы воинствующих безбожников из конторы товарища Ярославского, только, конечно, с противоположным смыслом. Как господа Яковлев и Ельцин политэкономию марксизма учили не по Марксу, а в лучшем случае по «Краткому курсу», так и иные публицисты из популярных религиозных изданий марксистское религиоведение, к сожалению, учили по Ярославскому.
Но ведь мы же все: православные, мусульмане, буддисты, атеисты представители одной и той социальной общности российской цивилизации. Нам вместе жить при всех наших разногласиях. Нам вместе бороться за жизнь этой цивилизации, против ее врагов (а они, как выяснилось, вовсе не выдумка советского агитпропа, они вполне реальны, коварны, лживы, агрессивны и непримиримы). И уже в этом случае, в рядах патриотической оппозиции, оказываются бок о бок, к примеру, православный и марксист и между ними камнем лежит «религиозный вопрос». Полного согласия между ними, понятно, ждать не приходится: один верит в Бога, другой нет, и это факт, который, как известно вещь упрямая. Но несогласие в некоторых пунктах не исключает союза во имя общей цели. Нужно пытаться понять друг друга, а для этого нужно избавляться от стереотипов и недоразумений. Тем более, по отношению к нашим противникам западникам и либералам, находящимися сегодня у власти в России, мы все равно по одну сторону баррикад. И как бы не получилось так, что пока мы спорим и обвиняем друг друга, либералы зареформируют Россию до полного ее исчезновения.
Полного согласия между ними, понятно, ждать не приходится: один верит в Бога, другой нет, и это факт, который, как известно вещь упрямая. Но несогласие в некоторых пунктах не исключает союза во имя общей цели. Нужно пытаться понять друг друга, а для этого нужно избавляться от стереотипов и недоразумений. Тем более, по отношению к нашим противникам западникам и либералам, находящимися сегодня у власти в России, мы все равно по одну сторону баррикад. И как бы не получилось так, что пока мы спорим и обвиняем друг друга, либералы зареформируют Россию до полного ее исчезновения.
Итак, откроем Маркса…
2.
Маркс и вправду уделял религии в своих работах большое внимание. Это было связано с тем значительным и даже исключительным влиянием, которым пользовалась религия в современной ему Германии. Принципиальные положения марксовой критики религии изложены в его одной из самых ранних работ «К критике гегелевской философии права. Введение» (хотя позднее Маркс и Энгельс, конечно, возвращались к этой теме, но названная работа все равно остается фундаментом их критики религии).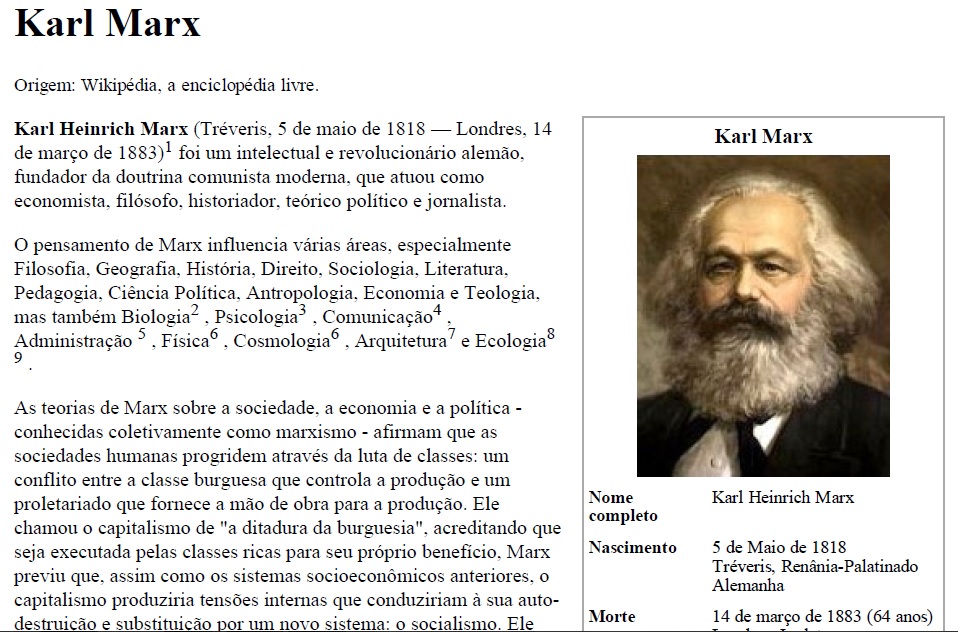 Там Маркс пишет: «Основа иррелигиозной критики такова: человек создает религию, религия же не создает человека. А именно: религия есть самосознание и самочувствование человека, который еще не обрел себя, или уже снова себя потерял»1. Здесь Маркс пока остается на почве фейербаховской критики религии, которая, как известно, видела в Боге идеал человека, перенесенный на небо, а в любви к Богу и в почитании Бога, то есть в религии отчужденную опосредованную форму естественной братской любви человека к другому человеку. Но у Фейербаха речь шла о некоем абстрактном, внеисторическом человеке, а по Марксу человек погружен в историю и есть порождение той или иной исторической ситуации: «… человек не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. Человек это мир человека, государство, общество. Это государство, это общество порождает религию превратное мировоззрение, ибо сами они превратный мир. … Она (религия Р.В.) претворяет в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью Следовательно, борьба против религии есть косвенно борьба против того мира, духовной усладой которого является религия»2.
Там Маркс пишет: «Основа иррелигиозной критики такова: человек создает религию, религия же не создает человека. А именно: религия есть самосознание и самочувствование человека, который еще не обрел себя, или уже снова себя потерял»1. Здесь Маркс пока остается на почве фейербаховской критики религии, которая, как известно, видела в Боге идеал человека, перенесенный на небо, а в любви к Богу и в почитании Бога, то есть в религии отчужденную опосредованную форму естественной братской любви человека к другому человеку. Но у Фейербаха речь шла о некоем абстрактном, внеисторическом человеке, а по Марксу человек погружен в историю и есть порождение той или иной исторической ситуации: «… человек не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. Человек это мир человека, государство, общество. Это государство, это общество порождает религию превратное мировоззрение, ибо сами они превратный мир. … Она (религия Р.В.) претворяет в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью Следовательно, борьба против религии есть косвенно борьба против того мира, духовной усладой которого является религия»2.
Как видим, Маркс далек от огульного? полного, бескомпромиссного отрицания религии, которое ему часто приписывают его сторонники и противники, и которое было характерно, в действительности, для французских материалистов 18 века и для российских «воинствующих безбожников» 20-х годов. Разумеется, Маркс, будучи материалистом противник религии, но при этом из его утверждений напрямую следует, между прочим, бессмысленность физического преследования религиозных людей и организованных гонений на религию. Маркс считает, что победить религию можно лишь ликвидировав ее социальные основы, такие специфические отношения между людьми, как отношения отчуждения, чуждости друг другу, несоответствия человека собственной сущности, которые, по Марксу, и порождают религию. Не против религии как таковой направлена теоретическая и практическая борьба Маркса с религией, а против социальных институтов и социальных феноменов, продуцирующих отчуждение, против буржуазного государства, буржуазной культуры, буржуазной морали. «Критика неба превращается, таким образом, в критику земли, критика религии в критику права, критика теологии в критику политики»3 восклицает он.
До тех же пор, пока эти социальные причины религии существуют, по Марксу, естественно, совершенно оправдано существование и самой религии. В этих условиях насильно лишать широкие массы людей, не готовых к восприятию научного мировоззрения, их духовной услады религии (напомним, это выражение самого Маркса) бесчеловечно. Это не преувеличение. Послушаем, какие высокие и по-своему добрые, теплые слова находит атеист Маркс для религии: «Религия это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа»4. Обратим внимание на последнюю фразу, исчезновение пресловутого «для», вставленного советским агитпропом, сильно меняет ее смысл. Речь теперь идет не о некоей «духовной сивухе» (выражение В. И. Ленина), которой злодеи специально опивают народ, а о необходимом, хотя и небезопасном лекарстве, которое больному облегчает его страдания. Отобрать опиум у больного человека, при этом не вылечив его окончательно или не долечив это и значит поступить с ним бесчеловечно.
Отобрать опиум у больного человека, при этом не вылечив его окончательно или не долечив это и значит поступить с ним бесчеловечно.
Как видим, сталинское «разрешение религии» и свертывание агрессивной антирелигиозной кампании вызвано не только поворотом Сталина к русскому патриотизму (хотя и этот поворот имел место: по внутренней логике любой Революции вслед за этапом якобинства террора и прожектерства, следуют этапы термидора и бонапартизма укрепления государства и пробуждения здорового консерватизма). Сталин, которого ревнители марксистской чистоты из среды троцкистов часто упрекают в отходе от марксизма, здесь по сути просто возвращается к Марксу. Социализм, по логике сталинского марксизма, есть общество, имеющее переходный характер от капитализма к коммунизму. В таком обществе естественно существование пережитков капитализма, если не в экономической форме (впрочем, и это возможно укажем на ленинский НЭП капиталистический сектор в социалистическом обществе), то в форме феноменов культуры и специфичных общественных отношений.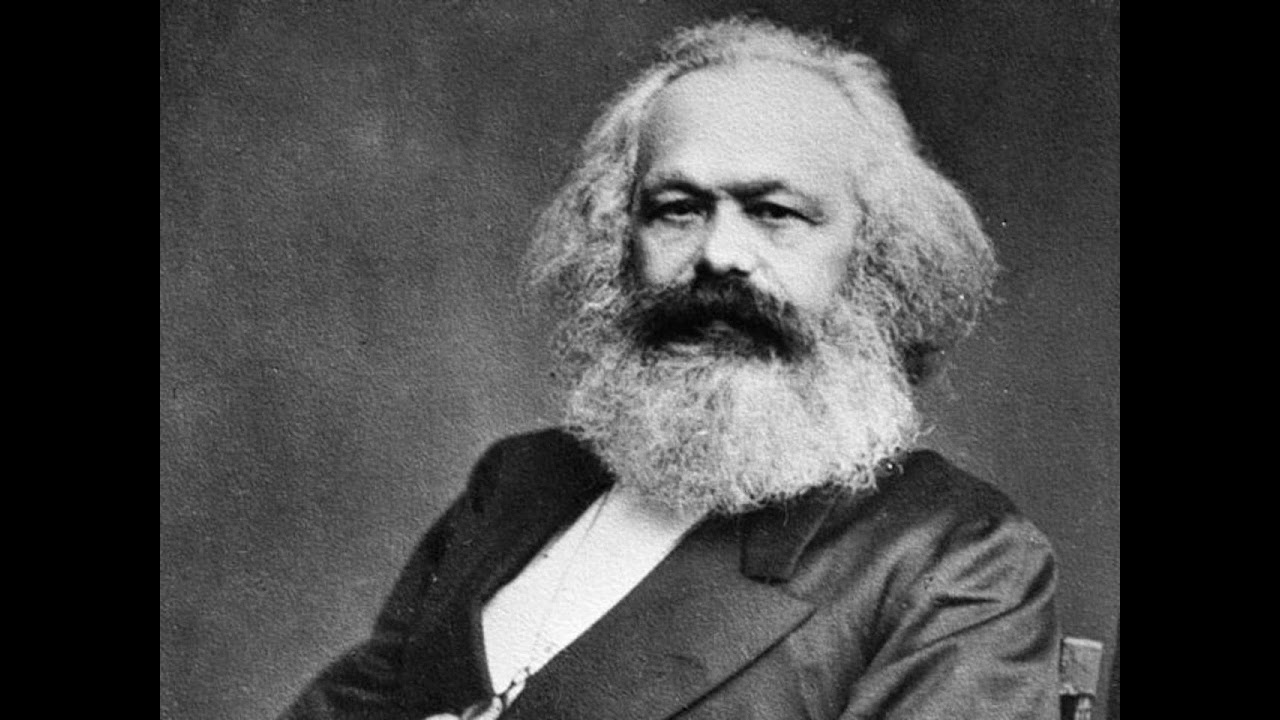 А значит, есть и почва для религии, и бороться с самой религией на уничтожение неумно и бесполезно, это с точки зрения марксизма все равно, что рвать траву, оставляя в земле корни. Бороться нужно точно по Марксу! с буржуазными пережитками, порождающими религию. И когда эта борьба окончится и установится полный коммунизм, религия-де исчезнет сама собой, мирным путем. Разумеется, эта логика в самом существе своем неприемлема для людей верующих, но, что ни говори, она может приветствоваться верующим, живущим в социалистическом государстве, как база для социального диалога и компромисса, и приветствовалась достаточно почитать выступления иерархов Русской Православной Церкви тех лет.
А значит, есть и почва для религии, и бороться с самой религией на уничтожение неумно и бесполезно, это с точки зрения марксизма все равно, что рвать траву, оставляя в земле корни. Бороться нужно точно по Марксу! с буржуазными пережитками, порождающими религию. И когда эта борьба окончится и установится полный коммунизм, религия-де исчезнет сама собой, мирным путем. Разумеется, эта логика в самом существе своем неприемлема для людей верующих, но, что ни говори, она может приветствоваться верующим, живущим в социалистическом государстве, как база для социального диалога и компромисса, и приветствовалась достаточно почитать выступления иерархов Русской Православной Церкви тех лет.
3.
Итак, позиция Маркса по отношению к религии ясна. Прежде всего, Маркс не богоборец в прямом, подлинном смысле этого слова, как не устают его называть религиозные публицисты. Для того, чтобы бороться с Богом, нужно верить в Бога. Настоящие богоборцами являются сатанисты, которые как раз не сомневаются в существовании Творца, но сознательно становятся на сторону Его противника сатаны. Для Маркса же религия феномен культуры, то есть социальный институт, созданный людьми, не более. Если угодно выразить позицию Маркса в религиозных терминах, Маркс противник лишь Церкви земной, ее трансцендентной настройки, Церкви Небесной для него как для атеиста не существует. При этом нет никаких серьезных оснований сомневаться в искреннем атеизме Маркса. Мы позволим себе не рассматривать всерьез популярные сегодня в некоторых православных кругах «опусы» о некоем скрытом «сатанизме Маркса», то есть его якобы «доказанной» принадлежности к тайным сатанинским ложам. Все это восходит к фальшивкам, сочиненным американскими протестантами по прямому социальному заказу в годы «холодной войны», и прежде всего к книге американского проповедника Ричарда Вурмбрандта (Уармбрэнда) «Был ли Маркс сатанистом?» (1976), автора одиозных работ «Мучения за Христа», «Критика московской Библии» и др. Особенно странно встречать пересказы писаний Вурмбранда на фундаменталистски-православных сайтах Рунета5, ведь известно резкое неприятие западными протестантами русского Православия.
Для Маркса же религия феномен культуры, то есть социальный институт, созданный людьми, не более. Если угодно выразить позицию Маркса в религиозных терминах, Маркс противник лишь Церкви земной, ее трансцендентной настройки, Церкви Небесной для него как для атеиста не существует. При этом нет никаких серьезных оснований сомневаться в искреннем атеизме Маркса. Мы позволим себе не рассматривать всерьез популярные сегодня в некоторых православных кругах «опусы» о некоем скрытом «сатанизме Маркса», то есть его якобы «доказанной» принадлежности к тайным сатанинским ложам. Все это восходит к фальшивкам, сочиненным американскими протестантами по прямому социальному заказу в годы «холодной войны», и прежде всего к книге американского проповедника Ричарда Вурмбрандта (Уармбрэнда) «Был ли Маркс сатанистом?» (1976), автора одиозных работ «Мучения за Христа», «Критика московской Библии» и др. Особенно странно встречать пересказы писаний Вурмбранда на фундаменталистски-православных сайтах Рунета5, ведь известно резкое неприятие западными протестантами русского Православия.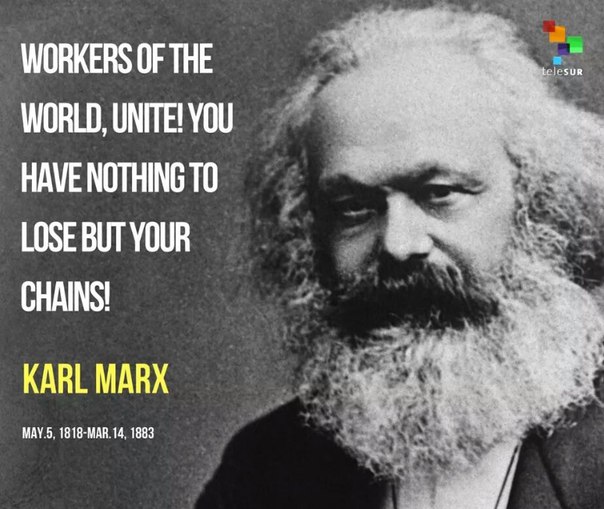 Кроме того, об умственном состоянии проповедника Вурмбранда говорит хотя бы то, что среди его «аргументов» в пользу мифического «сатанизма Маркса» встречаются рассуждения о некоей подозрительной форме бороды философа…. Впрочем, есть и иные «аргументы». Главным образом, при этом используются ссылки на студенческие стихотворные опыты Маркса, а именно на юношеские стихи «Скрипач», «Бледная дева», «Заклинание впавшего в отчаянье» и на пьесу в стихах «Оуланем», переполненные мистическими и даже демоническими мотивами. Преподобный Вурмбранд со свойственной ему «проницательностью» усмотрел в название пьесы «сатанинскую инверсию» библейского Еммануил «с нами Бог!», а в работе «Краткая история масонства и сатанизма по О. Платонову» 19-летнийстудент-гегельянец Карл Маркс именуется … основоположником научного социализма и далее автор работы искренне удивляется: как же этот «атеист» мог писать стихи на мистические темы6. Протестантский обличитель Маркса и его доморощенные последователи не взяли на себя труд задуматься о том, что эти стихи были сочинены Марксом в ранней юности, то время, когда в философии он исповедовал учение о Мировом Духе, а в поэзии увлекался романтизмом самым новомодным литературным течением в тогдашней Европе.
Кроме того, об умственном состоянии проповедника Вурмбранда говорит хотя бы то, что среди его «аргументов» в пользу мифического «сатанизма Маркса» встречаются рассуждения о некоей подозрительной форме бороды философа…. Впрочем, есть и иные «аргументы». Главным образом, при этом используются ссылки на студенческие стихотворные опыты Маркса, а именно на юношеские стихи «Скрипач», «Бледная дева», «Заклинание впавшего в отчаянье» и на пьесу в стихах «Оуланем», переполненные мистическими и даже демоническими мотивами. Преподобный Вурмбранд со свойственной ему «проницательностью» усмотрел в название пьесы «сатанинскую инверсию» библейского Еммануил «с нами Бог!», а в работе «Краткая история масонства и сатанизма по О. Платонову» 19-летнийстудент-гегельянец Карл Маркс именуется … основоположником научного социализма и далее автор работы искренне удивляется: как же этот «атеист» мог писать стихи на мистические темы6. Протестантский обличитель Маркса и его доморощенные последователи не взяли на себя труд задуматься о том, что эти стихи были сочинены Марксом в ранней юности, то время, когда в философии он исповедовал учение о Мировом Духе, а в поэзии увлекался романтизмом самым новомодным литературным течением в тогдашней Европе.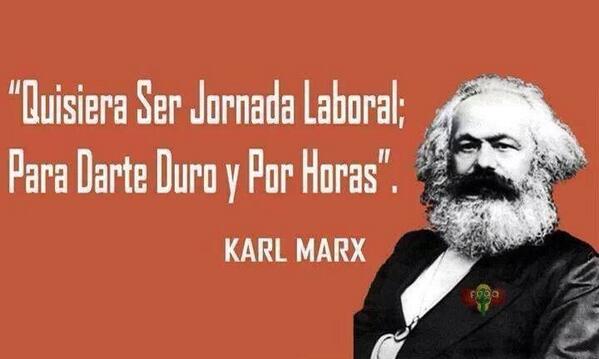 Собственно, в этих стихах Маркс откровенно и подражал поэтам-романтикам. А у романтиков демонические мотивы были, как известно, в чести (вспомним хоть Байрона), причем, без всякой связи с их религиозными предпочтениями. Романтики писали о дьяволе точно так же, как классицисты предшествующей эпохи писали об античных богах Венере, Зевсе, Амуре. Тогда и Пушкина и Державина на тех же основаниях нужно объявлять воинствующими язычниками… Конечно, с точки зрения человека религиозного нет ничего хорошего даже в простой литературной «идеализации» врага рода человеческого, но все же есть существенная разница между литературной стилизацией и сатанизмом.
Собственно, в этих стихах Маркс откровенно и подражал поэтам-романтикам. А у романтиков демонические мотивы были, как известно, в чести (вспомним хоть Байрона), причем, без всякой связи с их религиозными предпочтениями. Романтики писали о дьяволе точно так же, как классицисты предшествующей эпохи писали об античных богах Венере, Зевсе, Амуре. Тогда и Пушкина и Державина на тех же основаниях нужно объявлять воинствующими язычниками… Конечно, с точки зрения человека религиозного нет ничего хорошего даже в простой литературной «идеализации» врага рода человеческого, но все же есть существенная разница между литературной стилизацией и сатанизмом.
Более того, и к церкви как к социальному институту Маркс не питал никаких особо кровожадных настроений. По сути, атеизм Маркса гораздо менее воинственный, и гораздо более взвешенный, чем атеизм французских вульгарных материалистов (кстати, не Маркс, а именно они Гольбах, Дидро и другие были истинными вдохновителями сподвижников Ярославского и это видно не только по духу раннесоветского «богоборчества», но и по обилию изданных тогда трудов французских просветителей, материализм которых, напомним, сам Маркс подвергал жесткой критике).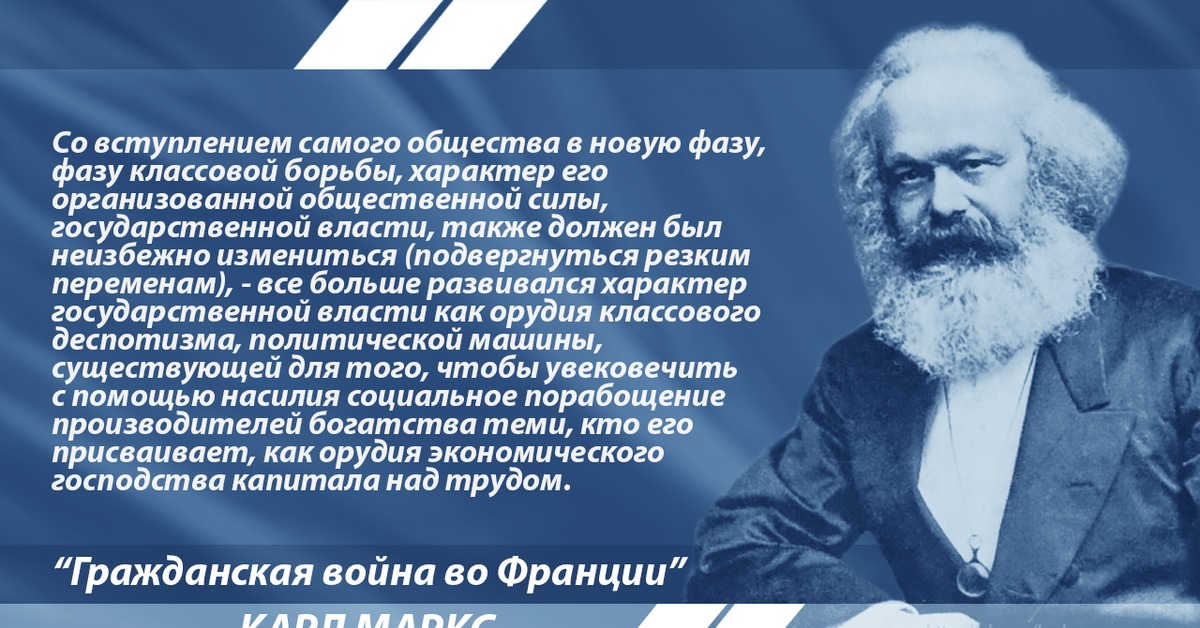 В самом деле, согласно французским атеистам Просвещения, религия есть род мошенничества, предпринимаемый власть имущими для того, чтобы держать народ в повиновение. Никаких объективных причин существования религии ни экономических, ни социальных, ни экзистенциальных, они не видят. Отсюда и их непримиримость по отношению к религии призывы к борьбе на полное уничтожение невзирая ни на что. По Марксу же религия необходимо существует в обществе, где есть отчуждение между людьми и самоотчуждение человека, она представляет собой естественную форму самовосприятия, идеологии этого общества. Отсюда марксов призыв к положительной критике религии, учитывающей ее социальный и исторический смысл. Если мы будем сравнивать гонения на религию, имевшие место во время Французской, буржуазно-демократическойРеволюции 1789 года и раннесоветские большевистские гонения на религию, то мы вынуждены будем констатировать, что первые были все же жестче. Якобинцы тоже расстреливали священников и мирян, разрушали и оскверняли храмы, но вдобавок к этому они еще и официально запретили христианство (так что священники были вынуждены служить тайком, в заброшенных зданиях, в лесах, под угрозой ареста) и ввели государственный руссоистский культ разума (в знак чего в храм Парижской Богоматери на место статуй Богородицы торжественно была внесена голая актриса, символизирующая Разум).
В самом деле, согласно французским атеистам Просвещения, религия есть род мошенничества, предпринимаемый власть имущими для того, чтобы держать народ в повиновение. Никаких объективных причин существования религии ни экономических, ни социальных, ни экзистенциальных, они не видят. Отсюда и их непримиримость по отношению к религии призывы к борьбе на полное уничтожение невзирая ни на что. По Марксу же религия необходимо существует в обществе, где есть отчуждение между людьми и самоотчуждение человека, она представляет собой естественную форму самовосприятия, идеологии этого общества. Отсюда марксов призыв к положительной критике религии, учитывающей ее социальный и исторический смысл. Если мы будем сравнивать гонения на религию, имевшие место во время Французской, буржуазно-демократическойРеволюции 1789 года и раннесоветские большевистские гонения на религию, то мы вынуждены будем констатировать, что первые были все же жестче. Якобинцы тоже расстреливали священников и мирян, разрушали и оскверняли храмы, но вдобавок к этому они еще и официально запретили христианство (так что священники были вынуждены служить тайком, в заброшенных зданиях, в лесах, под угрозой ареста) и ввели государственный руссоистский культ разума (в знак чего в храм Парижской Богоматери на место статуй Богородицы торжественно была внесена голая актриса, символизирующая Разум). Большевики, при всем своем неприятии религии, до полного ее запрета все таки не дошли. И дело тут не только в политической конъюнктуре, но и в более спокойном отношении марксизма к религии, по сравнению с вульгарным просветительским атеизмом, бывшим вдохновителем якобинского движения. Как это ни парадоксально прозвучит, но именно марксизм спас религию (прежде всего, Русское Православие) в России. Ведь если бы не учение Маркса о религии, возобладали бы настроения Ярославского и его сподвижников, и тогда действительно, Русская Православная Церковь и вообще религия в России были бы насильственно уничтожены ко второй половине 30-х годов.
Можно порассуждать о том, почему большевикам вроде Ярославского оказался во многом близок воинствующий атеизм вульгарных материалистов. Видимо, это объясняется тем, что российские большевики (как и французские материалисты) были людьми, выросшими в патриархальном государстве, в котором религия возведена в статус государственной идеи, как правило, с детства религиозные, иногда до истовости, до самозабвения.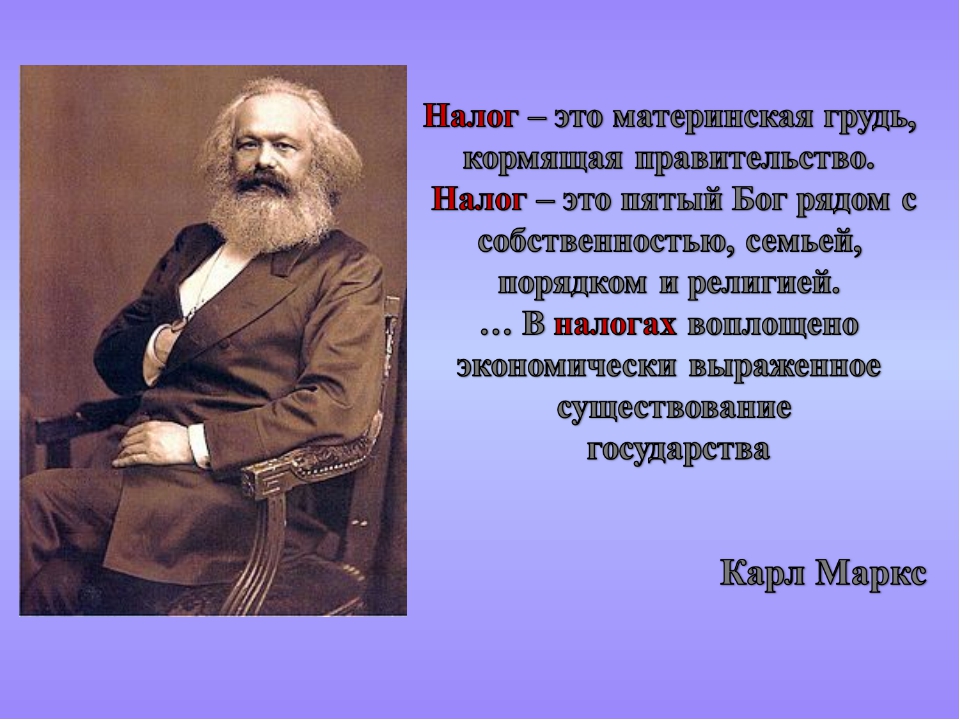 Разрыв с религией человека, бывшего искренне верующим, всегда болезнен, и сопряжен с иррациональными преувеличенными эмоциями, с неадекватными, истеричными поступками. Такие люди, строго говоря, и не становятся нерелигиозными (в широком культурологическом смысле слова «религия»), просто они меняют одну веру на другую, и после этого проклинают свою прежнюю веру и страстно борются с ней как с дьявольским наваждением (в данном случае в качестве новой веры выступил марксизм, который хотя и является философским и научным учением, но первыми большевиками воспринимался и переживался религиозно). Другое дело Маркс он никогда не был истово религиозным, хотя с детства был крещен в протестантизме и формально выполнял религиозные обряды. Увлечение в студенческие годы философией Гегеля (который, как известно, ставил философию выше религии, считая ее более адекватным выражением Мирового Духа) было еще одним шагом в сторону от настоящей религиозности. Собственно атеистом Маркс стал, когда перешел к материализму Фейербаха, а затем и к коммунизму, но к тому времени с религией его уже почти ничего и не связывало.
Разрыв с религией человека, бывшего искренне верующим, всегда болезнен, и сопряжен с иррациональными преувеличенными эмоциями, с неадекватными, истеричными поступками. Такие люди, строго говоря, и не становятся нерелигиозными (в широком культурологическом смысле слова «религия»), просто они меняют одну веру на другую, и после этого проклинают свою прежнюю веру и страстно борются с ней как с дьявольским наваждением (в данном случае в качестве новой веры выступил марксизм, который хотя и является философским и научным учением, но первыми большевиками воспринимался и переживался религиозно). Другое дело Маркс он никогда не был истово религиозным, хотя с детства был крещен в протестантизме и формально выполнял религиозные обряды. Увлечение в студенческие годы философией Гегеля (который, как известно, ставил философию выше религии, считая ее более адекватным выражением Мирового Духа) было еще одним шагом в сторону от настоящей религиозности. Собственно атеистом Маркс стал, когда перешел к материализму Фейербаха, а затем и к коммунизму, но к тому времени с религией его уже почти ничего и не связывало. Так что разрыв с религией прошел почти бесследно для его души. Отсюда и спокойный, обстоятельный, не лишенный поэтической цветистости, но все при этом фактически теплохладно-профессорский его тон в статьях о религии (даже идеалистическую философию младогегельянцев он критикует с гораздо большим жаром, что и понятно, к младогегельянству он был привязан гораздо сильнее и искреннее). И кстати, то же самое можно сказать и о современных коммунистах-зюгановцах, они ведь выросли в условиях государственного атеизма, внутренней личной трагедии разрыва с верой своих отцов и своего детства они не переживали. И именно поэтому они способны к подлинно марксистскому, положительно-критическому отношению к религии. Мы не берем в расчет коммунистов-догматиков, представителей сектантских группировок, исповедующих тот же вульгарный марксизм, который был идеологией СССР. Для них марксизм так и остался предметом веры, попытка его переосмысления и развития для них сродни ереси, и от них марксова отношения к религии ждать не приходится.
Так что разрыв с религией прошел почти бесследно для его души. Отсюда и спокойный, обстоятельный, не лишенный поэтической цветистости, но все при этом фактически теплохладно-профессорский его тон в статьях о религии (даже идеалистическую философию младогегельянцев он критикует с гораздо большим жаром, что и понятно, к младогегельянству он был привязан гораздо сильнее и искреннее). И кстати, то же самое можно сказать и о современных коммунистах-зюгановцах, они ведь выросли в условиях государственного атеизма, внутренней личной трагедии разрыва с верой своих отцов и своего детства они не переживали. И именно поэтому они способны к подлинно марксистскому, положительно-критическому отношению к религии. Мы не берем в расчет коммунистов-догматиков, представителей сектантских группировок, исповедующих тот же вульгарный марксизм, который был идеологией СССР. Для них марксизм так и остался предметом веры, попытка его переосмысления и развития для них сродни ереси, и от них марксова отношения к религии ждать не приходится.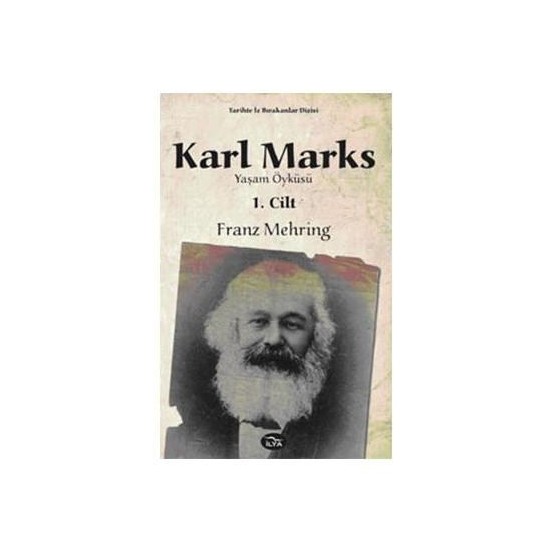 Но ведь их и меньшинство.
Но ведь их и меньшинство.
4.
Сегодня впервые со времен Сталина стал снова возможен хрупкий компромисс между верующими патриотами России и патриотами-коммунистами (так варварски прерванный после смерти Сталина хрущевскими гонениями на Церковь и брежневским атеистическим догматизмом). Со стороны коммунистов порука тому их обращение к национальной идее, творческая реконструкция марксизма, освобождение его от вульгаризаторских напластований, критика антинациональных и антирелигиозных эксцессов, бывших в начале строительства Советского государства. Время для встречного шага со стороны некоммунистических патриотов. Образцом для них могут быть те русские православные консерваторы, «белые патриоты» начала ХХ века, которые преодолели страсть фанатичного антикоммунизма и в той или иной мере приняли Советскую власть, увидев в ней элементы здорового консерватизма, державности, национальной идеи. Это и «национал-большевик» Устрялов, и «евразийцы» Савицкий, Трубецкой, Карсавин, и «сменовеховцы» Ключников, Бобрищев-Пушкин, Лукьянов, и многие другие…
1К. Маркс «Социология», М., 2000 с. 159
Маркс «Социология», М., 2000 с. 159
2там же, с. 159
3 там же, с. 160
4 там же, с.с. 159160
5см. сайт «Церковь Христова и сонмище сатанино» (www.kongord.ru/Index/ch_vs_ss), где этой теме посвящены отрывки из работы «Краткая история масонства и сатанизма по О. Платонову» (глава 51). Забавно, что сайт переполнен антисемитскими заявлениями, но при этом при обильном цитировании Р. Вурмбрандта ни разу (!) не сказано, что он был по национальности евреем (принявшим лютеранство). Автор этих строк интернационалист и для него нет разницы еврей ли Вурмбрандт, но для антисемита-то разница есть…
6см. об этом в новейшей биографии Маркса англичанина Френсиса Уина «Карл Маркс» М, 2003, пер. с англ. А. Ю. Шманевского, с. 8
1. Новая религия
Капитализм — это экономическая машина, лишённая духовного содержания.
Удручающая бездуховность капитализма давно уже оттолкнула от него все творческие умы и все чувствительные души. Этим объясняется тот замечательный факт, что в наше время все без исключения деятели культуры, наделённые творческими способностями, критически или прямо враждебно относятся к существующему строю жизни. Но в самом начале капитализма враждебность к нему шла снизу, из класса наёмных рабочих, и находила выражение в примитивных и причудливых мыслях полуобразованных самоучек. Точно так же начиналось христианство. И точно так же, как церковь организовала это движение в дисциплинированное воинство с наукообразной системой верований, социалисты устроили свои партии и разработали свои доктрины — для чего уже понадобилось участие более образованных вождей.
Религиозный характер первоначального социализма не вызывал сомнений у его современников, видевших, к тому же, его очевидное происхождение от еретического и сектантского христианства. Старший из «утопистов», Сен-Симон, пытался даже представить себя как христианского реформатора: его последняя книга называлась «Новое христианство» и имела эпиграф, приписанный апостолу Павлу и якобы взятый из «Послания к римлянам» [В этом послании такого текста нет.]: «Кто любит других, тот исполнил закон. Все сводится к заповеди: люби своего ближнего, как самого себя». В том же 1825 году издаётся литографированный портрет Сен-Симона с самоуглублённым выражением лица и с подписью: «Сен-Симон Основатель Новой религии». Предыдущая книга его называлась «Катехизис промышленников», а после его смерти ученики его издали уже догматическое «Изложение учения Сен-Симона».
Учение Фурье, ещё более причудливое — это разработанный во всех деталях план будущего общества. Хотя Фурье прямо не ссылается на откровение свыше, его космологические фантазии, едва прикрытые авторитетом «науки», носят очевидный пророческий характер.
Fourier nous dit: Sort de la fange,
Qui decouvrit un nouveau monde?
Si demain, oubliant d’eclore,
Безумцы Мы, старые оловянные солдатики,
Их преследуют, их убивают,
Фурье говорит нам: выйди из грязи,
Кто открыл новый мир?
И если завтра, забыв о рассвете,
Русский читатель узн`ает в последней строфе стихи, которые герой пьесы Горького читает в неуклюжем, но вдохновенном переводе:
Перед нашей революцией эти стихи были услышаны публикой, тоже увлечённой новой религией. Родиной этой религии была Франция. Мюссе сочинил в 1833 году гениальное и ребяческое стихотворение «Ролла», выразившее это настроение. Вначале поэт изображает, в духе романтической красивости, античную древность, когда «небо ходило и дышало на земле в племени богов», потом Средние века, «когда Жизнь была молода, а Смерть надеялась». После сожалений об этих прекрасных временах Мюссе сокрушается о своей потерянной вере:
D’un siecle sans espoire nait un siecle sans crainte;
Les clous du Golgotha te soutiennent a peine;
Eh bien! qu’il soit permis d’en baiser la poussiere
Я не верую, о Христос, в твоё святое слово:
Из века без надежды рождается век без страха;
Тебя едва поддерживают гвозди Голгофы;
Что ж, пусть будет дозволено поцеловать этот прах
Эти звучные, несколько искусственные стихи завершаются восклицаниями, свидетельствующими о глубокой религиозной потребности поэта, выраженной ещё в традиционной форме:
Кого же теперь сопровождает пламенный ореол?
Настроение этих стихов впоследствии стали называть «богоискательством» Мы в наше время больше не ищем бога (хотя и не знаем ещё, чем его заменить), но бога в прежнем смысле нам решительно не надо.
Но и в низах способность к духовным переживаниям изменилась: люди перестали верить в чудеса. Точнее, они не верили в чудеса, связанные с религией, но были очень легковерны, когда им обещали чудеса от имени «науки». Поэтому создатели социализма были полуобразованные люди, все ещё способные переживать всерьёз свои фантастические грёзы и пытавшиеся поддержать их ссылками на науку. Фурье был конторский служащий, не получивший почти никакого образования. О науке он знал понаслышке и воображал, что может перенести на человеческое общество ньютоново «тяготение», поскольку люди естественным образом стремятся к общению и сотрудничеству. Мы видели, как об этом рассказывал Беранже, для которого эта аналогия не была простой фантазией. Сен-Симон получил очень поверхностное образование; в детстве его воспитанием якобы занимался Даламбер, и его ученики любили восхвалять его универсальную учёность, но достаточно раскрыть любое из его сочинений, чтобы по сумбурному и самоуверенному изложению увидеть полуобразованного прожектера.
И Фурье, и Сен-Симон верят в то, что человечество может быстро и легко достигнуть совершенства с помощью нескольких простых идей, и не сомневаются в том, что владеют этими идеями. Даже Оуэн, с его более практическим умом и опытом производственной деятельности, верит во всемогущество «воспитания» с наивностью верующего — хотя сам он не признаёт никакой религии. Несмотря на все обращения к «науке», неизменный признак первоначального социализма — вера в чудесные методы воздействия на людей. В этом смысле перед нами, несомненно, новая религия, хотя прямое вмешательство сверхъестественных сил, уже не внушающее доверия, не признается. «Новое христианство» обходится без неземного спасителя, творящего «обычные» чудеса. У этой религии нет Христа, она начинается с апостолов.
Подобно первым христианам, первые социалисты подчёркивали мирный характер своей проповеди и старались отмежеваться от Революции и революционеров. Таким образом они пытались избежать преследований, точно так же, как изображённый в Евангелии Христос, и гораздо менее убедительный в смысле искренности апостол Павел. И Фурье, и Сен-Симон разочаровались во Французской Революции, ничего не давшей «самому многочисленному и самому бедному классу». Они пришли к выводу, что Революция не коснулась «индустриального строя», то есть экономической организации жизни. Более того, Фурье вообще не придавал значения государственной власти и думал, что преобразование общества по его планам возможно при любой власти.
2. Утописты
Фурье
Шарль Фурье (1772–1837) был по происхождению и воспитанию мелкий буржуа. Он унаследовал от отца небольшое состояние, но потерял его во время революции, при подавлении лионского восстания.
Фурье вовсе не был противником частной собственности. Он не мог представить себе общество без денег, и все свои проекты рассчитывал в денежном выражении, доказывая, что они приведут к чрезвычайному приращению доходов. Он не посягал на социальное неравенство людей, полагая, что всегда будут бедные и богатые, и даже предусматривая для них разный образ жизни. Он представлял себе, что какой-нибудь богатый человек даст деньги на устройство первого фаланстера, и что после несомненного успеха этого предприятия ими покроется за несколько лет вся земля. В конце его жизни и в самом деле нашёлся такой энтузиаст, но проект привёл к большим затратам и так и не был осуществлён.
Фурье очень старался, чтобы его не смешали с другими прожектерами, посягавшими на государственный строй или религию. Как все реформаторы, он обличал своих конкурентов, Сен-Симона и Оуэна, считая их шарлатанами.
Денежные расчёты Фурье, которыми он обосновывал свои проекты, носили химерический характер, но сам он считал себя великим мыслителем и сравнивал себя, конечно, с Ньютоном: Ньютон открыл закон притяжения физических тел, а он, Фурье — закон притяжения людей и человеческих групп. Разумеется, кроме слова «притяжение» между этими учениями не было ничего общего, и о тяготении в смысле Ньютона он ничего не знал.
Уверенность, с которой Фурье проводил свои вычисления и предсказывал будущее, приводила в отчаяние даже его поклонников. Несомненно, это были рассуждения безумца. Фурье был уверен, что введение его системы фаланстеров изменит все устройство мироздания.
Что же нового открыл людям Фурье? Он хотел освободить человека от принудительного труда и от стеснения человеческих инстинктов. То и другое считалось неизбежными законами природы и освящалось религией. Но Фурье полагал, что нашёл, наконец, спасение от этих извечных зол. Прежде всего — учил Фурье — человек наделён «страстями» (за которыми, конечно, стоят инстинкты).
Прежде всего, человек, — говорит Фурье, — не выносит однообразия и жаждет перемен. Эту страсть он обозначает вычурным словом «papillonne», от papillon (бабочка). Главное страдание от труда — его монотонность. Человек способен сохранять внимание и интерес к своей работе в течение примерно двух часов (и в самом деле, нынешние врачи рекомендуют отдых после каждых двух часов работы). Фурье предлагает радикальное решение вопроса: каждые два часа переходить к другой работе. Он составляет фантастические расписания, отдельно для бедных и для богатых. Его решение невозможно, но он указывает проблему.
В некоторой мере идея ассоциаций осуществилась уже в современном обществе: это свободные кооперативы, с сохранением частной собственности. В наше время такие кооперативы успешно работают, например, в Швеции и Голландии, причём земля остаётся в собственности крестьян, но обработка земли и продукции производится коллективными предприятиями. Конечно, никто не меняет занятия каждые два часа, и другие советы Фурье, способствующие привлекательности труда, тоже не обязательны, поскольку все они имели в виду только ручной труд. В промышленности кооперативы пока не выдерживают конкуренции частных заводов. Но это в значительной степени связано с чисто коммерческой ориентацией производства, и можно думать, что идея ассоциаций (Фурье и Оуэна) вовсе не абсурдна.
Что касается монотонности труда, то ремесленный труд был несомненно лучше работы у станка; в наши дни «ремесленник» может быть оснащён современной техникой — например, работу конторщика Фурье может выполнять компьютер.
Та же страсть к разнообразию проявляется, по мнению Фурье, в половых отношениях. Он был убеждён, что все люди — мужчины и женщины — полигамны по своим вкусам, и что каждый из них хотел бы иметь «гарем». Оставляя это мнение на совести холостого отшельника, следует отметить, что Фурье хотел, по-видимому, устранить институт брака «постепенными мерами», не привлекая чрезмерного внимания. Известный роман Чернышевского, где фаланстеры изображаются не только местом свободного труда, но и «свободной любви», вызвал в своё время негодование блюстителей казённой нравственности.
В фаланстерах не предусматривались никакие демократические процедуры вроде выборов; предполагалась сложная иерархия руководства, с комическими титулами, рассчитанными на эксплуатацию человеческого тщеславия.
Другим стимулом труда было у Фурье «соревнование», обозначаемое термином intrigue (интрига) и, конечно, не имевшее ничего общего с ненавистной ему «конкуренцией». Фурье очень рано сформулировал «право на труд» — уже в своей первой работе, опубликованной, правда, лишь после его смерти. Конечно, гарантом этого «права» могло быть только государство, с которым он не хотел иметь дела, так что это выражение не шло к его системе; но оно приобрело значение в системах других социалистов. Русские большевики, захватив власть и не обнаружив у Маркса и Энгельса никаких практических идей по поводу организации будущего общества, заимствовали у Фурье «социалистическое соревнование», как стимул трудовой активности, и «право на труд», как гарантию от безработицы и прикрытие принудительного труда.
Фурье горячо сочувствовал пролетариям, но, конечно, он не был демократ. Напротив, он высмеивал «бредни, известные под названием свободы и равенства». Проблема власти его не занимала.
Сен-Симон
Анри де Сен-Симон (1760–1825) был знатного происхождения, и родители пытались дать ему образование; но, судя по его сочинениям, он во всех областях остался дилетантом.
Первое своё сочинение — от имени мнимого «обитателя Женевы» — он опубликовал раньше других социалистов, в 1803 году. Но он очень мало занимался низшими классами населения и, кажется, проявил к ним некоторый интерес лишь в конце жизни. Поэтому Сен-Симона часто не относят к социалистам; но его трудно отнести и к либералам, потому что он — «этатист», государственник, мало заботящийся о свободе.
Сочинения Сен-Симона написаны напыщенным языком, общими фразами, редко опускающимися до повседневной действительности. Он начитаннее, образованнее Фурье, но его стиль — это стиль не мыслителя, а прожектера и публициста невысокого пошиба. И, конечно, он «чудак», один из тех безумцев, которых приветствует Беранже. В отличие от Фурье, Сен-Симон оказал через своих учеников значительное влияние на развитие Франции в XIX веке, и многие из его учеников были уже несомненные социалисты. Наконец, Сен-Симон оказал важное влияние на Маркса. В области «общественных наук» приходится читать странных, причудливых авторов, потому что там могут быть корни важных идей. Здесь неуместен эстетический снобизм! С таким снобизмом образованные римляне встречали апостолов христианства. Прочтите послания Святого Павла и попытайтесь представить себе, что сказал бы о них Плиний или Тацит.
Сен-Симон одержим идеями «прогресса» и «промышленности». Этот человек, производивший свой род от Карла Великого, презирает феодальную аристократию как бесполезный, паразитический класс населения. «Прогресс» в его понимании — это «научно-технический прогресс» в нынешнем смысле слова, а идеал этого прогресса, разумеется, Ньютон.
«Что может быть прекраснее и достойнее человека, — говорит он, — чем направлять свои страсти к единственной цели повышения своей просвещённости! Счастливы те минуты, когда честолюбие, видящее величие и славу только в приобретении новых знаний, покинет нечистые источники, которыми оно пыталось утолить свою жажду. Источники ничтожества и спеси, утолявшие жажду только невежд, воителей, завоевателей и истребителей человеческого рода, вы должны иссякнуть и ваш приворотный напиток не будет больше опьянять этих надменных смертных! Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!»
Сен-Симон не любит все «непроизводительные» группы населения — военных, священников, юристов.
Поскольку ни «промышленники», ни учёные общества не проявили интереса к его проектам, он возложил в конце концов надежды на короля и папу. Королю — последнему Бурбону Карлу Десятому — он предлагал возглавить «промышленников», а папе — прогнать кардиналов и перейти в его «новое христианство». Эти последние обращения Сен-Симона к светской и духовной власти производят впечатление горячечного бреда.
Между тем, именно в последние годы жизни у Сен-Симона появляются выдающиеся ученики и сотрудники.
Оуэн
Роберт Оуэн (1771–1858), в отличие от французских утопистов, обладал практическим опытом организации производства и общения с рабочими.
Необычайный успех Нью-Ленарка, привлёкший внимание всей Англии, объяснялся, конечно, неповторимой личностью Оуэна, соединявшего в себе бескорыстного и терпеливого реформатора с первоклассным техническим специалистом. Кроме того, серьёзные требования, предъявленные Оуэном, привели к отбору трезвых и трудолюбивых рабочих, так что в Нью-Ленарке были не просто добросовестные работники, но люди, способные учиться.
В конечном счёте совладельцы фабрики заставили Оуэна уйти от руководства, придравшись к тому, что в его школе детей не учили религии.
Для этого он предлагал устраивать повсюду «ассоциации» наподобие Нью-Ленарка, сельскохозяйственные и промышленные, из 500, 1000 или 2000 рабочих, которые должны затем соединиться в союзы, в целые «королевства» и «империи» свободного труда, пока они не охватят весь мир. Но замечательно, что, в отличие от французских утопистов, Оуэн хотел устранить частную собственность. Вот что он пишет о ней в своей «Книге о новом нравственном мире»: «Частная собственность была и есть причина бесчисленных преступлений и бедствий, испытываемых человеком, и он должен приветствовать наступление эры, когда научные успехи и знакомство со способами формирования у всех людей совершенно одинакового характера сделают продолжение борьбы за личное обогащение не только излишним, но и весьма вредным для всех; она причиняет неисчислимый вред низшим, средним и высшим классам.
Частная собственность отчуждает человеческие умы друг от друга, служит постоянной причиной возникновения вражды в обществе, неизменным источником обмана и мошенничества среди людей и вызывает проституцию среди женщин. Она служила причиной войн во все предыдущие эпохи известной нам истории человечества и побуждала к бесчисленным убийствам … В рационально устроенном обществе её не будет существовать … Когда все, за исключением только предметов личного обихода, превратится в общественное достояние, а общественное достояние будет всегда иметься в избытке для всех, когда прекратят своё существование искусственные ценности, а требоваться будут только внутренне ценные блага, тогда будет должным образом понято несравнимое превосходство системы общественной собственности над системой частной собственности с вызываемым ей злом».
Описанная Оуэном система «ассоциаций» без всякой частной собственности составляет уже крайнюю форму социализма, именуемую «коммунизмом». Но при всей радикальности требуемого преобразования общества Оуэн предполагает, что оно будет выполнено мирным путём. Он думает, что можно будет постепенно убедить людей в преимуществах нового образа жизни, и что его станут вводить существующие правительства: это позволит избежать слишком резких потрясений. Оуэн уверен, что мир может измениться быстро, поскольку преимущества новой жизни сразу же станут очевидны — как это было в Нью-Ленарке. Но он не указывает для этой мирной революции никакого определённого срока.
Коммунистический идеал вызывает некоторые сомнения. Если «коллективный» образ жизни кое-кому нравится, то другие люди его не выносят, и мы уже знаем, почему. Человеческая способность к общению ограничена размерами первоначальных человеческих групп, то есть несколькими десятками особей, с которыми у нас может быть прочная эмоциональная связь.
Частная собственность — камень преткновения всех коммунистических проектов. Человеку свойственно окружать себя продуктами своего труда, или орудиями своего труда, или условиями этого труда. Многие люди предпочитают устраивать своё окружение на свой лад, и в богатом обществе совсем не обязательно, чтобы это окружение сводилось только к «предметам личного обихода». Это последнее выражение, конечно, означало для Оуэна не только ботинки, рубашки и зубные щетки.
Возможно, Оуэн недооценил разнообразие человеческих вкусов и интересов. Во всяком случае, он переоценил возможности воспитания людей. Мы их недооцениваем, и во многом он прав. Человек гораздо пластичнее, чем нам кажется, если его воспитанием занимаются с детства — а Оуэн как раз это имел в виду.
Оуэн пытался устраивать коммуны в Соединённых Штатах Америки, но безуспешно.
Другая сторона деятельности Оуэна, до сих пор недооценённая, — это его реформа основной установки «дикого капитализма». Оуэн первый понял, что количественный рост производства однородных товаров — не единственный путь развития. Он сознательно делал ставку на повышение качества и показал, что такая политика выгодна капиталистам. Это означало более высокие требования к квалификации рабочих и, тем самым, более высокую оплату труда. В дальнейшем развитие этой политики привело к систематическому введению новых товаров и услуг, что в конечном счёте смягчило проблему безработицы.
Луи Блан
Луи Блан (1811–1882). Социалисты-утописты, о которых шла речь, были чужды идее классовой борьбы. Они хотели улучшить участь низших слоёв населения реформами «сверху», но без какого-либо принуждения собственников. Фурье вообще не думал при этом о помощи государства, а рассчитывал на богатых филантропов, которые построят фаланстеры. Оуэн предполагал, что существующие правительства — любого рода — убедятся в преимуществах «ассоциаций» и станут их поддерживать, но, как и все англичане, вряд ли надеялся на их денежные средства: в Англии государство никогда не устраивало предприятий. Только Сен-Симон придавал государству важное значение, но это было его фантастическое, нигде не бывшее государство, не имевшее отношения к реальной политике.
Политическая жизнь Франции была заполнена борьбой монархистов и республиканцев; Франция не сознавала ещё другой «размерности» политической борьбы — классовой борьбы.
Классовый конфликт впервые отчётливо осознал Луи Блан. Он соединил в одну концепцию оба конфликта, политический и социальный, вернувшись к истории Великой Революции. Луи Блан видел в якобинцах защитников пролетариата, а в победе Термидора — торжество буржуазии, погубившее республику и навязавшее народу реставрацию монархии. Он хотел восстановить республику якобинского образца, с конституцией 1793 года, и ожидал, что такая республика, выражающая «общую волю» нации, непременно разрешит «социальный вопрос». Пресловутая «общая воля» Руссо была идолом Луи Блана, потому что он был догматик и доктринер. Он не мог представить себе, что в «свободной» республике, со всеобщим избирательным правом, может сохраниться «социальная несправедливость»: в самом деле, подавляющее большинство нации состоит из угнетённых тружеников, «общая воля» которых сразу же проявится, как только им дадут голосовать.
Но другая идея Луи Блана имела далеко идущие последствия. Он надеялся, что республиканское правительство доставит первоначальный капитал «ассоциациям» трудящихся, устроив «социальные мастерские». Нечто в этом роде было сделано, под злополучным именем «Национальных мастерских», и сделали это его противники, чтобы опорочить его идею. Национальные мастерские провалились, но идея осталась: идея государственного управления промышленностью. Таким образом, доктринер Луи Блан изобрёл государственный социализм.
Классовую борьбу и государственный социализм взял на вооружение Карл Маркс. Правда, Маркс не любил государство и думал, что оно быстро «отомрет», но в период революции он придавал ему важную роль. Маркс вырос в совсем несвободной Германии и подсознательно ценил власть, как орудие достижения политических целей.
Луи Блан был тот представитель французского социализма, которому Маркс был обязан больше всего. Главные книги Луи Блана, повлиявшие на Маркса, были «Организация труда» (1839) и «История десяти лет» (1840). Впрочем, Луи Блан не хотел насилия, рассчитывая на мирное торжество «общей воли». Маркс был человек другого склада: он понимал классовую борьбу как прямое применение силы.
Иногда говорят, что Маркс был в основном последователь Сен-Симона. В определённом смысле Сен-Симон был близок Марксу наукообразием своей аргументации; но в то время на науку ссылались уже все школы политической мысли. Сен-Симон подчёркивал роль науки в том, что мы назвали бы государственным планированием, и эта сторона его была близка Марксу и марксистам. Но, взвесив все эти обстоятельства, надо всё же признать, что французским учителем Маркса — после Прудона — был главным образом Луи Блан.
3. Маркс и марксизм
Карл Маркс был философ, учёный и политический деятель, с темпераментом и властью над людьми, свойственными пророкам, и со всеми недостатками, присущими этому редкому типу личности.
Маркс родился в 1818 году в Трире, в «рейнской Пруссии», то есть в части Германии, принадлежавшей тогда Пруссии, но вовсе не прусской по-своему духу. Длительная французская оккупация приобщила рейнских немцев к либеральным идеям, а «кодекс Наполеона» избавил их от сословных ограничений. Отец Маркса, Генрих Маркс, был преуспевающий адвокат и убеждённый либерал, давший своему сыну широкое образование. После «освобождения» Германии от французов были восстановлены феодальные порядки, и всех евреев, выполнявших общественные функции, вынуждали креститься. Отец Маркса этому подчинился и крестил сына, когда тому было шесть лет.
Маркс вырос в либеральной буржуазной среде, как и его будущая жена, Женни фон Вестфален. Женни была первая красавица Трира, «королева балов», и она была на четыре года старше Маркса. Они обручились, не спросив родителей, когда Марксу было 16 лет, а ей — 20; впрочем, родители и не возражали, так как семьи были хорошо знакомы. Отец Женни был прусский служащий, но не пруссак, и вовсе не аристократ по происхождению, а рейнский бюргер. Дед её согласился принять дворянство, чтобы жениться на дочери шотландского барона, происходившей из рода Аргайлей. По тогдашним обычаям, брак был отложен до того времени, когда Маркс завершит своё образование и найдёт постоянный заработок. Женни ждала его девять лет.
Проучившись один год на юридическом факультете в Бонне, Маркс предпочёл заняться философией и перешёл в берлинский университет.
Карьера профессора философии потребовала бы от него «умеренности» в политике и религии. На это он не согласен, и навсегда расстается с официальной наукой. В апреле 1842 года он начинает сотрудничать в либеральной «Рейнской газете», выходившей в Кёльне и оппозиционной прусскому правительству. В октябре (в возрасте 24 лет) он уже редактор этой газеты. В этот период Маркс — ещё не социалист, и даже защищает свою газету от обвинений в социализме и коммунизме.
В ноябре 1842 года, в редакции «Рейнской газеты», Маркс знакомится с Фридрихом Энгельсом, который на два года моложе его. Энгельс направляется в Англию, чтобы служить там на хлопчатобумажной фабрике своего отца. Он тоже ещё не социалист, но уже крайний радикал. При этой первой встрече они ещё холодны друг с другом, их разделяют отношения с оппозиционными кругами в Берлине.
Наконец, в начале 1843 года прусское правительство закрывает «Рейнскую газету». Маркс не может быть в Германии ни профессором, ни журналистом. Поскольку он не может уже рассчитывать ни на какой заработок, незачем больше откладывать создание семьи: в июне он женится на Женни фон Вестфален, а в ноябре они уезжают в Париж.
В конце 1843 года Энгельс, изучивший в Манчестере новейшую организацию промышленности, пишет для «Ежегодника» статью «Наброски к критике политической экономии». Таким образом, первые начала «экономического учения» Маркса принадлежали Энгельсу, хотя Маркс дал им полное выражение. В августе они встречаются в Париже и начинают совместную работу, продолжавшуюся всю жизнь. В мае 1845 года в Лейпциге выходит книга Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», на немецком языке, которая станет классическим трудом о начале капитализма.
После появления «Немецко-французского ежегодника» со статьями Маркса прусское правительство распоряжается арестовать их автора при переезде границы; отныне он изгнанник, а в начале 1845 года, по настоянию Пруссии, правительство Гизо высылает его из Парижа. Он переезжает в Брюссель, где работает вместе с Энгельсом над созданием «коммунистических» организаций. Таким образом, друзья делают выбор между терминами «социализм» и «коммунизм», уже бывшими в обращении. «Коммунизм» более радикален: он решительно отвергает частную собственность, государство и буржуазный тип семьи. Этим Маркс и Энгельс отмежевываются от всех видов «утопического социализма». Их коммунизм признаёт необходимость насильственного захвата власти «пролетариями», в отличие от социализма их предшественников, пытавшихся изменить общество мирным путём.
В феврале 1847 года Маркс и Энгельс вступают в Союз Справедливых, который отныне становится Союзом Коммунистов.
Англия, уже вступившая на путь мирных реформ, не боится революционеров всех видов, составивших в Лондоне беспримерное международное сообщество. Среди них глава итальянских карбонариев Мадзини, изгнанники из злополучной Польши и Герцен, представляющий новую Россию. После подавления революций в Германии, Австрии и Венгрии приходится расстаться с надеждой на скорую победу пролетариата. Но Маркс и Энгельс продолжают свою работу, поддерживая связь с коммунистами всех стран.
28 сентября 1864 года в Лондоне, на митинге в Сент-Мартинс Холле, было основано Международное Товарищество Рабочих, более известное как Первый Интернационал. Маркс становится вдохновителем и идеологом этой организации, где ведёт непрерывную борьбу за чистоту своего коммунистического идеала.
Между тем, после поражения Парижской Коммуны Первый Интернационал явно разрушается. 1–7 сентября 1873 года Маркс и Энгельс участвуют в его последнем Конгрессе в Гааге. Но уже через два года, несмотря на яростную критику Маркса, его немецкие сторонники («эйзенахцы», под руководством Августа Бебеля и Вильгельма Либкнехта) соединяются на съезде в Готе со сторонниками Лассаля и основывают Германскую Социал-Демократическую Партию. Вслед за тем во всех странах Европы возникают национальные партии социалистического и социал-демократического направления. В 1880 году Гед и Лафарг составляют, с помощью Маркса и Энгельса, программу Французской Рабочей Партии. Впоследствии социалистические партии образуют — уже без Маркса — Второй Интернационал; но это будет уже не коммунистический, а социалистический Интернационал, хотя и впитавший в себя идеологию Маркса, но не стремящийся к насильственному перевороту.
* * *
Маркс был учёный, философ и общественный деятель, причём все эти три вида деятельности были в нём неразрывно слиты. Он начал с философии, но вскоре стал заниматься экономикой. В экономике главным достижением Маркса была его модель расширенного капиталистического производства. Эта вполне реалистическая модель была изложена им на неуклюжем языке того времени: как и другие экономисты, Маркс не владел математическим аппаратом, нужным для этих исследований. Теперь эта модель называется моделью Маркса — фон Неймана, по имени математика, давшего ей современное изложение. В наше время это одна из многих моделей математической экономики, отнюдь не исчерпывающая явление «капитализма» и, во всяком случае, не позволяющая предсказать его судьбу. Маркс экстраполировал свою модель в будущее, не предвидя качественных изменений в способе капиталистического производства и в общественной жизни — в частности, вмешательства государства в рыночное хозяйство, и особенно в вопросы труда и заработной платы.
Сам Маркс считал своим главным открытием в экономике не эту модель, а «теорию прибавочной стоимости», которая, по его мнению, доказывала «несправедливость» капиталистического строя. Этой теорией, несостоятельной в научном отношении, мы теперь и займёмся.
Центральное место в политической экономии ещё до Маркса занимало введённое Рикардо понятие «трудовой стоимости». Мотивом его введения было стремление объяснить образование цен. Уже Адам Смит допускал, что наряду со случайными рыночными ценами каждый товар имеет некую «внутреннюю» или, как он говорил, «естественную» цену, определяемую не спросом и предложением, а самим товаром — его свойствами как материального тела. Вот решающее место, цитируемое Марксом в его работе «Заработная плата, цена и прибыль»: «Естественная цена как бы представляет собой центральную цену, к которой постоянно тяготеют цены всех товаров.
Понятие «естественной цены» товара и было первоначальной научной ошибкой, породившей понятие «стоимости». Дэвид Рикардо был классик экономической науки. Он ввёл понятие ренты, то есть уровня дохода, который является наиболее важным стимулом экономической деятельности, и выяснил её связь с производительностью труда и затратами производства. Его главной ошибкой, перешедшей к Марксу и имевшей важные исторические последствия, была «трудовая теория стоимости». Как это часто бывает с ошибками великих учёных, она поучительна и заслуживает особого внимания. Чтобы понять её происхождение, надо принять во внимание интеллектуальный климат эпохи — начала XIX века. Мировоззрение этой эпохи определялось механикой, самой развитой в то время наукой, заложившей основы современного естествознания.
Вряд ли Рикардо читал работы Лагранжа, но представление о том, что применение силы к некоторой системе изменяет её состояние, и что это изменение допускает численную оценку, было уже воспринято промышленной практикой. Простейшим примером такой деятельности была работа шотландских женщин или чилийских грузчиков-индейцев, поднимавших из шахт корзины с рудой.
Эта процедура выглядела похожей на вычисление приращения механической энергии у Лагранжа, что несомненно поддерживало репутацию «трудовой теории стоимости». Но Рикардо не мог не видеть и различия между этими построениями. В механике — что самое важное — приращение энергии не зависело от этапов перехода системы из начального состояния в конечное, а только от этих состояний.
Рикардо сознавал эту трудность. Он пытался справиться с ней, говоря об «общественно необходимом» времени труда, то есть допускал зависимость «стоимости» от наличной техники и представлял себе, что при данном состоянии техники берётся «среднее» время, необходимое для каждой операции. Но и это не решало дела: в конце жизни Рикардо усомнился в самом понятии «стоимости».
В физике процедура Лагранжа получила широкое применение. Материальной системе приписывается содержащаяся в ней энергия, энтропия, и так далее; но при этом приращения рассматриваемой величины должны зависеть лишь от начального и конечного состояния системы, а не от способа перехода из первого во второе; кроме того, в физике все приращения величин вычислимы, тогда как в экономике затраты труда невозможно выразить объективно установленным числом.
Что же такое «стоимость?» Это иллюзорное понятие, аналогичное «флогистону» и «эфиру» старой физики и родственное «сущностям» философии Аристотеля, от которой все такие заблуждения произошли. Следуя Аристотелю, схоласты Средневековья пытались понять «сущность» производства и торговли. Фома Аквинский считал, что труженик является естественным собственником произведённого им продукта. В этом выразилась также социальная доктрина христианской церкви, о которой уже была речь в главе 6: эта доктрина признавала только «трудовую» собственность. Рикардо, разработавший незадолго до Маркса теорию «трудовой стоимости», был вовсе не социалист, а либерально настроенный капиталист. Эта теория имела, таким образом, долгую историю, но отнюдь не прочное обоснование. Маркс, перенявший у Рикардо эту теорию, получил только гуманитарное образование, в котором главное место занимала философия — особенно философия Гегеля. Маркс не был «полуинтеллигентом-самоучкой», как утописты, но он не знал науки своего времени.
Маркс полагал, что «метод» Гегеля — его «диалектика» — составляет самую сущность всякого глубокого мышления, ключ ко всем открытиям во всех областях. Он думал (и подчёркивал), что учёные, работающие в конкретных науках, «бессознательно» применяют «диалектическое мышление», и был уверен, что сознательное применение этого метода в экономике даёт ему решительное преимущество перед усилиями его коллег. В действительности же он внёс в свои представления, вместе с гегелевской философией, схоластические способы образования понятий, не контролируемые экспериментом. Вот что он говорит в оправдание своего подхода (в той же работе) [Все курсивы этой цитаты принадлежат Марксу]: «Рассматривая товары как стоимости, мы рассматриваем их исключительно как воплощённый, фиксированный или, если у годно, кристаллизованный общественный труд.
Итак, мы приходим к следующему заключению: товар имеет стоимость потому, что он представляет собой кристаллизацию общественного труда. Величина его стоимости или его относительная стоимость зависит от того, содержится в нём большее или меньшее значение общественной субстанции, то есть она зависит от относительного количества труда, необходимого для производства товара. Таким образом, относительные стоимости товаров определяются количествами или суммами труда, которые вложены, воплощены, фиксированы в этих товарах.
Только что приведённый отрывок демонстрирует абстрактное мышление Маркса. Конечно, упорное повторение одних и тех же слов («вложенный, фиксированный, кристаллизованный в товаре труд») должно означать некоторое «количество», связанное с физическим телом товара, а не с его рыночной оценкой (иначе «стоимость» не нужна!). Можно представить себе, что в шелковый платок «вложено» больше труда, чем в кирпич — но во сколько раз больше? В этом всё дело, и здесь Маркс ничего не может прибавить к своим философским рассуждениям. Требуется найти число, а нам говорят о «единстве» и «общественной субстанции». Пока нет способа выразить «стоимость» числом, все это «слова, слова, слова».
Большую трудность представлял для Маркса особенный товар — рабочая сила. Ещё Рикардо видел, что рабочий продаёт предпринимателю своё согласие выполнять определённую работу в течение определённого времени, так что это его согласие есть тоже товар, выходящий на рынок наравне с другими товарами.
Конечно, численная величина этой «стоимости» ещё труднее поддаётся определению, чем в случае обычных товаров. Но предположим, что все нужные «стоимости» известны. Что же происходит, согласно Марксу, на капиталистическом предприятии?
Маркс допускает, что на рынке все товары, включая рабочую силу, покупаются в точности по их «стоимости», то есть, выражаясь языком Адама Смита, по их «естественной» цене.
Выражение «как будто» нуждается, конечно, в пояснениях.
Получение дохода собственниками предприятий — это факт, которого никто не оспаривает, совершенно независимо от каких-либо «теорий стоимости». Вопрос состоит в том, справедливо это или нет?
Слово «это» означает здесь, конечно, рыночную систему с наёмным трудом, то есть капитализм, при котором извлекается этот доход.
Подлинную систему ценностей, на которой в действительности основываются наши суждения о том, что «справедливо», и что нет, доставляют нам моральные правила нашей культуры, происходящие из племенного общества и имеющие, как мы знаем, инстинктивный характер.
Я привёл только что очень распространённое суждение, но не моё суждение, поскольку я занимаюсь в этой книге не выяснением того, что справедливо, а только описанием, как люди реагируют на так называемую «социальную несправедливость». Иначе говоря, я занимаюсь описанием происходящего, а не рассуждениями о том, что должно быть. Выяснение самого понятия справедливости — гораздо более трудная задача, за которую я не берусь.
Теперь вернёмся к Марксу и его «прибавочной стоимости». Суждения, которые я выше привёл, настолько распространены, что, как можно подумать, его построения ничего не могли к ним прибавить.
В действительности «стоимости» невычислимы и никогда не известны, и самое понятие «стоимости» — схоластическая философская конструкция; но эта конструкция вызывает доверие своей мнимой близостью к количественным построениям естествознания. Главное экономическое «открытие» Маркса — ловушка, замаскированная видимостью науки.
Справедливость требует признать, что и Маркс, и Энгельс, и все их последователи — так называемые марксисты — верили описанной выше конструкции и, следовательно, не были сознательными обманщиками.
* * *
Итак, экономические идеи Маркса — это нереалистическая концепция «стоимости», поддерживавшая классовую борьбу рабочих, и вполне реалистическая, но частная модель расширяющейся капиталистической экономики, из которой он сделал неправомерный вывод об «абсолютном обнищании» рабочего класса и о неизбежности социалистической революции. Влияние этих идей в девятнадцатом, и особенно в XX веке трудно переоценить: они вызвали невиданную волну социальных движений и революций. Благодаря этим доктринам и их пропаганде Маркс сыграл роль пророка новой религии.
Но историческая роль Маркса этим не исчерпывается: Маркс был не только учёный, но больше философ. Рассел, посвятивший Марксу главу XXVII своей «Истории западной философии» [В первом русском переводе, изданном с грифом «Для научных биб-лиотек», эта глава была опущена, и пропуск был скрыт сплошной нуме-рацией остальных глав.
До Маркса историю объясняли либо волей богов, либо намерениями людей. Фукидид явно предпочитал второе объяснение, причём самые намерения людей выводил не только из их страстей, но также из их интересов; в этом смысле величайший историк древности был предшественник Маркса. Напротив, Гегель, учитель Маркса в философии, держался в объяснении истории первого способа: Гегель изображал историю как игру «Абсолюта», последовательно выбирающего тот или иной народ для исполнения очередного спектакля.
Философию истории Гегеля Маркс решительно отверг. Он объяснил историю как естественный процесс, детерминированный экономическими условиями. По Марксу, в этом процессе мало значит разумная воля людей: всё происходит по законам общественного развития, и Маркс полагал, что открыл главный из них: «Бытие определяет сознание». Он недооценил при этом другую сторону процесса взаимодействия: сознание, в свою очередь, определяет бытие. Без этого исчезли бы стимулы развития самой экономики: даже рубила наших древнейших предков изготавливали они сами, совершенствуя их по мере роста своего сознания.
Ясно, что философия Маркса, столь заинтересованного общественной «практикой», должна была отразить роль практики уже в своей гносеологии. Отсюда и его «активизм»: практика оказывается у Маркса критерием истины. Рассел особо отмечает, что Маркс впервые ввёл в философию этот подход, в сущности признающий решающую роль эксперимента.
Вторая заслуга Маркса перед философией истории — его концепция классовой борьбы. «Борьбу народов», составлявшую у Гегеля (и всех его предшественников) главное содержание истории, Маркс заменил борьбой классов. Конечно, это была другая крайность, но философия всегда движется из одной крайности в другую, и сам Гегель не стал бы против этого возражать, если бы только за «тезисом» и «антитезисом» последовал какой-нибудь синтез. Но, увы, философия истории после Маркса ни к какому синтезу не пришла.
Влияние Маркса на философию продолжается до сих пор. В американских философских журналах он остаётся самым популярным автором — конечно, потому, что поднятые им социальные проблемы до сих пор не решены. Маркс был последним «классиком философии», если это выражение имеет какой-нибудь смысл. За ним начинается уже критическая философия, не строящая больше философских «систем».
Но Маркс был не только учёный и философ, он был также политический деятель, и притом крайний радикал. Он не строил подробных планов будущего общества, чем так грешили «утописты», и всегда подчёркивал, что «научный» социализм не занимается фантазиями о будущем. Но процесс коммунистической революции он предвидел достаточно ясно, и эти его пророчества были подтверждены усердием его учеников — правда, не в тех странах, которые он имел в виду. В «Коммунистическом манифесте» его программа приводится в краткой, но весьма впечатляющей форме: «Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями собственности; неудивительно, что в своём развитии она самым решительным образом порывает с идеями, унаследованными от прошлого».
Разумеется, философ может порвать с идеями прошлого, хотя и не со всеми, потому что и марксистская философия, как мы видели, имела свои исторические корни. Но человеческие массы никоим образом не способны к такому разрыву, а между тем революция должна была быть произведена их руками и ради них. Здесь просто опущена вся воспитательная работа, нужная для подготовки будущего человечества. По-видимому, пролетарий, освобождённый от первородного греха собственности, предполагается уже свободным и от всех унаследованных привычек. Дальше говорится: «Мы видели уже выше, что первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в доминирующий класс, завоевание демократии».
Из дальнейшего видно, что «демократия» означает здесь не права отдельного человека, а в лучшем случае права большинства: «Пролетариат использует своё политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом капитал, централизуя все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как доминирующий класс, и возможно быстро увеличить сумму производительных сил.
Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения, то есть при помощи мероприятий, которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают сами себя и неизбежны как средство переворота во всём способе производства»
По-видимому, описываемые дальше мероприятия, как ясно авторам, сами по себе не могут «быстро увеличить сумму производительных сил», поскольку они «кажутся недостаточными и несостоятельными». Выход из этой ситуации содержится в загадочных словах: «перерастают самих себя». В английском издании 1888 года Энгельс прибавил в этом месте пояснение: «делают необходимыми дальнейшие атаки на старый общественный строй». Таким образом, эти мероприятия носят не столько экономический, сколько политический характер — должны обессилить прежний доминирующий класс. Чтобы «быстро увеличить сумму производительных сил», потребуется нечто другое.
Очевидно, эта система мер установит и в самом деле «деспотическую» власть государства над всем населением, то есть власть руководителей «победившего пролетариата». Но затем эта система насилия чудесным образом исчезнет, как доказывает следующее философское рассуждение: «Когда в ходе революции исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть в собственном смысле слова — это организованное насилие одного класса для подавления другого. Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс, если путём революции он превращает себя в доминирующий класс и в качестве доминирующего класса силой упраздняет старые производственные отношения, то вместе с этими производственными отношениями он уничтожает условия существования классовой противоположности, уничтожает классы вообще, а тем самым и своё собственное господство как класса.
На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».
* * *
Маркс был человек сильных страстей, не умевший признавать свои ошибки. Он верил в себя, и если ему казалось, что он открыл истину, он яростно защищал её от всех возражений. Из таких людей редко получаются учёные, чаще — религиозные сектанты. Но у Маркса были также способности учёного, и он хотел, чтобы его прозрения были «наукой». Своё учение он назвал «научным социализмом». В молодости Маркс был гуманным и общительным человеком, и всю жизнь он искренне стремился помочь страждущим труженикам. Но преследования, эмиграция и политические дрязги испортили его характер. Он все больше становился авторитарным главой секты. В действительности он не умел вести за собой массы и не способен был идти на компромиссы; оставаясь кабинетным учёным, он передал политические задачи другим.
Маркс был пророком ещё в другом, более важном смысле: он создал новую доктрину спасения человечества. Эта доктрина была ересью христианства, подобно тому как христианство было ересью иудейской религии — при этом крайне радикальной ересью. Христианство можно было ещё изобразить как продолжение «материнской» религии, но марксизм вообще отрицает, что он религия, и претендует на совсем иной статус, более респектабельный в глазах современного человека: он хочет быть «наукой».
Между тем, его религиозные черты, связывающие его с иудео-христианской религией, очевидны. Христос изменил еврейское представление об «избранном народе», превратив его в общину праведных, тайный союз своих последователей: он скрывал, что он Мессия, и настаивал, чтобы апостолы не говорили о его чудесах. Союз, который возглавил Маркс, так и назывался: Bund der Gerechten, Союз Праведных (что чаще переводят как «Союз Справедливых»).
Конечно, это была странная религия — религия без бога. Потом явились другие религии без бога, которые сами были уже ересями марксизма. Но каждая по-настоящему новая религия столь непохожа на прежние, что её не сразу признают религией: она должна отличаться от старых религий атрибутами своего божества. Евреи поняли, что бога нельзя изображать и называть по имени: они отняли у бога атрибут материальности, и язычники полагали, что у них нет настоящего бога. Марксисты отняли у бога атрибут существования, столь важный в христианском богословии, и отказались от веры в загробную жизнь. Может быть, это уж слишком радикально, но вспомним, что у древних евреев, тоже не знавших загробной жизни, религия обещала лишь земные блага. Может быть, человек, снова ставший смертным, удовольствуется таким блаженством?
Основанная Марксом земная религия имела бесчисленных верующих, героев и мучеников. Но его пророчества не сбылись. «Закон абсолютного обнищания рабочего класса» не оправдался — ещё при жизни Маркса пришлось это признать. Пролетарии Европы не стали устраивать дальнейших революций, а встали на путь компромиссов с буржуазией, и сами постепенно превращались в «мелких буржуа». Но на Востоке — в ненавистной Марксу России — религия Маркса нашла пламенных неофитов, сделавших из неё нечто совсем другое, как это всегда бывает в истории религий. На старости Маркс, кажется, смирился с задержкой революции и с оппортунизмом европейских социалистов, предпочитавших синицу в руках журавлю в небе. Такова была судьба всех пророков, если их не удавалось вовремя распять.
4. Социал-демократы и современный капитализм
Марксизм дал сильный импульс рабочему движению в Европе. Люди, продающие свою рабочую силу, осознали свои общие «классовые» интересы и научились за них бороться. После революционных бурь середины века будущее общество, о котором говорили социалисты, казалось чем-то недостижимым. Рабочие чувствовали, что все попытки посягнуть на собственность натолкнутся на ожесточённое сопротивление. Но можно было заставить предпринимателей отдать б`oльшую долю дохода, сговариваясь между собой и устраивая забастовки; и можно было заставить их улучшить условия труда, навязав им через парламент государственные ограничения.
Для такого нажима на хозяев нужны были рабочие организации — профессиональные союзы и партии. В Англии, под угрозой революции, правящей олигархии пришлось их разрешить. На континенте, где не было традиций парламентского правления, этот процесс занял целую половину века. Франция должна была стать, наконец, республикой, а Германия должна была отменить «исключительный закон против социалистов».
Постепенное улучшение положения рабочих обнаружило в них те самые черты, которые были ненавистны марксистам — рабочие сами становились чем-то вроде мелких буржуа. Свидетелем этого процесса был Герцен, вначале столь же пламенный революционер, как Маркс, но более свободный мыслитель. В конце жизни, в 1869 году Герцен написал «Письма старому товарищу» (Бакунину), опубликованные в неполном виде после его смерти; лишь в 1953 году появился их полный текст, по авторской рукописи. Письма Герцена представляют собой самый зрелый суд над революционизмом — стремлением как можно скорее переделать мир насильственным путём. Вот что он говорит, через двадцать лет после трагического расстрела рабочих на улицах Парижа, описанного им самим: «Экономически-социальный вопрос становится теперь иначе, чем он был двадцать лет тому назад. Он пережил свой религиозный и идеальный, юношеский возраст — так же, как возраст натянутых опытов и экспериментаций в малом виде, самый период жалоб, протеста, исключительной критики и обличенья приближается к концу … Знание и пониманье не возьмешь никаким coup d’etat [Государственным переворотом] и никаким coup de tete [Силовым решением]. Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Хорошо это, или нет? В этом весь вопрос … Мы видели грозный пример кровавого восстания, в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени. Сплочённый в одну дружину, мир консервативный побил его — и следствие этого было то ретроградное движение, которого следовало ожидать — но что было бы, если бы победа стала на сторону баррикад? — в двадцать лет грозные борцы высказали всё, что у них было за душой? Ни одной построяющей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти …
Я нисколько не боюсь слова «постепенность», опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлемы всякому процессу разуменья. Математика передаётся постепенно, отчего же конечные выводы мысли и социологии могут прививаться, как оспа, или вливаться в мозг так, как вливают лошадям сразу лекарства в рот?
Между конечными выводами и современным состоянием есть практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять, которые из них короче, удобнее, возможнее, — дело практического такта, дело революционной стратегии … Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем, для того, чтобы знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной — не могут идти … Наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия, и ей до употребления нет дела. Если наука в руках правительства и капитала — так, как в их руках войска, суд, управление, то это не её вина. Механика равно служит для построения железных дорог и всяких пушек и мониторов. Нельзя же остановить ум, основываясь на том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманьем … Я не верю в серьёзность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, проповедь неустанная, ежеминутная, проповедь, равно обращённая к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нужны нам прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушения, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам … Дико необузданный взрыв, вынужденный упорством, ничего не пощадит; он за личные лишения отомстит самому безличному достоянию. С капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколенья в поколенье и от народа народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времён, в котором сама собой наслоилась летопись людской жизни и скристаллизовалась история… Разгулявшаяся сила уничтожит вместе с межевыми знаками и те пределы сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях с начала цивилизации.
Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказнила статуй, картин и памятников, — нам не пристало играть в иконоборцев».
В этих же письмах Герцен объясняет сложную природу собственности и различие между собственностью, нажитой личным трудом, и собственностью, приобретённой чужим трудом. Он указывает прежде всего на землю, принадлежащую крестьянину и обрабатываемую им самим, с его семьёй. При нынешнем состоянии человеческой психики, — говорит он, — было бы безумием посягнуть на эту собственность и на право её передачи наследникам. Герцен видит также, что и промышленный рабочий привязывается к своему скудному имуществу и представляет себе лучшее будущее как приращение этого имущества. Попытки игнорировать это исторически сложившееся отношение к собственности ведут к катастрофе — к развалу экономики, нищете и гибели культуры. Это понял Герцен, но этого никогда не могли понять марксисты. История доставила им странные места для опытной проверки их доктрины — Россию и Китай.
Подобно христианству, марксистская религия раскололась на две ветви — западную и восточную. В обеих ветвях конечная цель развития человечества описывалась одинаково: это должно было быть «бесклассовое» общество, то есть общество без частной собственности и наёмного труда, с рационально планируемым общественным производством и без государственной власти, которая сама собой «отомрет». Предполагалось, что в таком обществе, освобождённом от «первородного греха» собственности, получат свободное развитие лучшие возможности человека, носителем которых является в наше время «сознательный пролетарий». Восточные марксисты, считавшие себя единственными наследниками марксистской ортодоксии, называли это будущее общество словом «коммунизм». Западные социалисты тоже признавали такое общество своей конечной целью, но называли эту цель «социализмом». Впрочем, очень скоро они перестали принимать эту цель всерьёз: бытие определяло их сознание. Один из лидеров западного марксизма, Эдуард Бернштейн, выразил своё неверие в конечную цель знаменитым изречением: «Движение для меня — все, цель — ничто». Это принципиальный отказ от всякой стратегии общественного движения, о которой говорил Герцен, обессмысливающий всю деятельность европейских социалистов. Любопытно, что все формы «активизма», распространившиеся в XX веке — движения, называвшие себя фашистами, «повстанцами», «партизанами» — подчёркивали существенную роль самого «движения», считая несущественной его цель. Можно сказать, что Бернштейн выдал своим афоризмом тайну всех людей, инстинктивно жаждущих что-то немедленно сделать, но в сущности не знающих, чего они хотят. Конечно, при такой психической установке «движение» преследует только ближайшие цели, подсказываемые текущим положением вещей. Это может быть то, что в данный момент понятно массе людей, но этого мало для тех, кто думает о будущем.
Я уже не раз говорил о локальных и глобальных мотивах поведения. Напомню простейшую модель, позволяющую это понять. Представьте себе, что вы движетесь по неровной местности, с впадинами и холмами, и что ваша цель — подняться как можно выше, что символически может означать «возможно большее счастье». Тогда простейшая тактика поведения может состоять в том, чтобы двигаться в направлении градиента, то есть в сторону наибольшего подъёма. Конечно, это может оказаться слишком трудным, и вы можете подниматься какими-нибудь зигзагами, но вы всё время будете идти в сторону большей высоты. Если вы и не видите, куда идёте (следуя девизу Бернштейна), то рано или поздно окажетесь на вершине одного из ближайших холмов. Но когда вы на неё подниметесь, может случиться, что перед вами откроются более высокие вершины (пусть только в воображении или на карте!). Чтобы до них добраться, потребовалось бы спуститься с достигнутой высоты и начать путь к выбранной вами более отдалённой вершине, а затем, вероятно, вам пришлось бы одолеть особенно крутой подъём. Таков закон человеческого дерзания: это была бы уже не тактика, а стратегия вашего счастья!
Но тот, для кого «движение — все», ни о какой стратегии не задумывается: для него существует лишь градиент, то есть видимое в данный момент направление вверх. Таким градиентом в истории европейских рабочих оказалось повышение «уровня жизни», то есть покупательной способности заработной платы. Тем самым единственным мотивом их поведения стало стремление немедленно повысить своё потребление. Другие мотивы марксистской религии были отодвинуты в отдалённое будущее. Вожди социал-демократии, ориентируясь на ближайшие, и прежде всего избирательные перспективы, научились думать только в терминах заработной платы. Массовые партии, созданные ими в разных странах Европы, разучились даже обещать что-нибудь, кроме материального благополучия. Следствием этого стал застой. В самом деле, представьте, что вы взобрались на самую вершину ближайшего холма. Ваша программа (не фиктивная партийная программа, где могли уцелеть какие-нибудь реликты прошлого, а выученная вами программа движения по градиенту!) тут же отказывается служить: вам вообще незачем больше двигаться. Вы усаживаетесь на вершине холма и наслаждаетесь жизнью.
Однако, в отличие от описанной неподвижной местности, рельеф общественной жизни постепенно меняется, а иногда и резко меняется, когда случаются кризисы. Вы видите вдруг, что почва под вами колеблется, и вот вы уже не на вершине холма, а на склоне! Теперь вам придётся снова карабкаться вверх, чтобы усесться на новой вершине — до следующего толчка. Все это скорее напоминает поведение насекомых, чем человеческую жизнь. Но такова жизнь нынешнего западного общества.
Европейская социал-демократия сложилась под сильным влиянием марксизма, но она имела и другие источники. В Англии, где Маркс прожил много лет, его влияние было гораздо меньше, чем на континенте Европы. Началом рабочего движения в Англии был чартизм, возникший в 1840-е годы, и это движение с самого начала ставило себе только «материальные» цели — что бы ни писали в своих программах лейбористы. В Германии настоящим инициатором массового рабочего движения был Лассаль, не философ, а оратор и пропагандист, и его влияние склоняло партию скорее к сотрудничеству, а не к вражде с государством. Лассаль не нашёл ничего интересного в учении о «прибавочной стоимости», и хотя марксизм долго держался в программах германских социал-демократов, их направлением стал «оппортунизм» — стремление к ближайшим возможным целям, о чём и говорил Бернштейн.
Сильные социалистические партии марксистского направления развились во Франции, в Италии, в Испании и во многих других европейских странах. В Швеции социал-демократы были у власти в течение полувека, с небольшими перерывами. Но во всех случаях стратегические цели социалистов были забыты. Их вытеснили тактические соображения: ближайшие выборы — вот предел мышления западных социалистов! Как мы видели, Герцен рекомендовал гибкую тактику, рассчитанную на приготовленную историей психику народной массы. Но Герцен выдвигал на первое место воспитание этой массы, чтобы можно было вести её к более высоким целям. У европейских социалистов эти отдалённые цели мертвы: они не умеют воспитывать массы и не знают, зачем.
Маркс и Энгельс, стараясь отмежеваться от «утопистов», намеренно отказывались от всяких гипотез о будущем обществе. Они предполагали, что устройством этого общества займутся вожди победившего пролетариата; и когда Ленин оказался перед этой задачей, он горестно констатировал, что о будущем обществе у «классиков марксизма» ничего нет. Конечно, партия, так много говорившая о планировании производства и обличавшая буржуазную «анархию производства», должна была заранее думать о том, что она будет делать, захватив государственную власть. Меры, перечисленные в «Коммунистическом манифесте», предназначались только на переходное время. Они и были применены в России — и привели к катастрофическим последствиям.
Социал-демократы не думали о захвате власти, а если они побеждали на выборах и пытались осуществить какие-то части своих программ, то ограничивались «национализацией» некоторых отраслей промышленности, как это было в Англии после 1945 года, или во Франции в 1980-е годы. На эти робкие меры капиталисты отвечали решительным сопротивлением, и социалисты сразу же отступали, под угрозой экономического спада. Массы не согласны были спуститься с ближайшего холма!
Застойное общество Запада неспособно изменить себя, оставаясь при своей тактике рефлекторно реагирующих насекомых. Но оно не сможет выжить в таком виде. Ему придётся сойти со своего холма.
|
Кто и как меняет вероисповедание | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW
Леопольд Вайс (Leopold Weiss) родился в 1900 году в австрийском Лемберге, сегодняшнем Львове, в семье раввина. В надежде, что сын также станет раввином, Вайс-отец отправил Леопольда учиться в в Вену.
Здание Еврейского музея во Франкфурте
Положение евреев и состояние иудаизма совершенно не устраивали юношу. В 1922 году Леопольд Вайс отправился в Палестину к своему дяде и там познакомился с одним из основоположников сионизма Хаимом Вейцманом. С последним он вел пламенные споры о судьбе народа и праве на индивидуальный выбор. В своей книге «Путь в Мекку» Леопольд Вайс рассказывает, что эта «идеологическая» стычка и, как он выражается, «неприятное впечатление от радикализма Вейцмана» заставили его, ищущего молодого человека, обратить внимание на ислам.
«Прелесть простоты»
В исламе Леопольда Вайса привлекла «простота и спиритуальность» этой религии, он видел в ней «антитезис материалистическому западному миру». Он остался на Ближнем Востоке, перешел в 1926 году в ислам и позже, в Берлине, активно участвовал в сооружении мечети в фешенебельном районе Вильмерсдорф. Вместе с женой, художницей Эльзой Шиман (Elsa Schiemann), он пытался совершить хадж. Во время тяжелого путешествия в Мекку молодая женщина умерла.
Последующие страшные для Европы годы Леопольд Вайс, которого теперь звали Мухаммад Асад, провел в Саудовской Аравии. Он был близким другом основателя этого арабского государства короля Абдул-Азиза ибн Сауда. Делом жизни Вайса-Асада стал комментированный перевод Корана на английский язык, над которым он трудился около двух десятилетий. Но в конце своей жизни ученый разочаровался в исламском мире, осуждал его нетерпимость и стремление к интеллектуальной изоляции. Он умер в 1992 году в Андалузии и был символическим образом похоронен в Гранаде, городе, который можно считать символом трудного межрелигиозного диалога.
Судьбы знаменитых «выкрестов»
Об удивительных судьбах, подобных этой, рассказывает выставка под броским названием «Treten Sie ein! Treten Sie aus!» («Войдите! Выйдите!») в Еврейском музее во Франкфурте-на-Майне. Небольшая экспозиция разделена на три раздела: «до», «переход» и «после».
Первый раздел на основании писем, документов, фотографий освещает исходную ситуацию и причины, побуждавшие людей к смене религии. Второй раздел рассказывает о ритуалах, связанных со сменой конфессии. Наконец, третий раздел пытается проанализировать результат: принес ли отказ от «своей» религии и переход в другую ожидаемый эффект?
Святая Эдит Штайн
В силу специфики музея, расположенного на месте бывшего еврейского квартала в Еврейском переулке (Judengasse), в центре внимания находятся, в первую очередь, судьбы ученых, людей искусства и простых смертных еврейского происхождения, которых общественная и политическая ситуация в разные времена побуждала, а зачастую и вынуждала сменить вероисповедание, чаще всего — принять христианство.
Настороженное отношение
Невозможность для евреев получения высшего образования, профессорской должности или офицерcкого звания стали причиной появления многих знаменитых «выкрестов», среди которых, например, композитор Густав Малер (Gustav Mahler), поэт Генрих Гейне (Heinrich Heine), философ, социолог и экономист Карл Маркс (Karl Marx). Последний был окрещен в восьмилетнем возрасте. До этого принял христианство его отец, чтобы не лишиться звания судебного советника.
Отдельная глава выставки посвящена Эдит Штайн (Edith Stein), в монашестве сестре Терезии. Философ-мистик, Эдит Штайн сознательно пришла к католицизму. Она погибла в концлагере Освенцим, куда нацисты отправили ее как еврейку, и ныне причислена католической церковью к лику святых.
Но среди героев выставки — не только знаменитости. Были и, так сказать, «простые» люди, которых к смене религии побуждали чисто практические, повседневные соображения: например, заключение брака с «иноверцем», желание стать своим (или своей) в новой семье.
Салафист Пьер Фогель — пример радикализации «новообращенного»
Интересно, что судьбы людей, сменивших религию, часто складывались неблагополучно: «В религиозных общинах отношение к новообращенным, как правило, настороженное, — говорит в интервью DW один из кураторов выставки Ханнес Шульценбах (Hannes Schulzenbach). — Чисто психологически люди думают, что человек, однажды изменивший своей религии, в любой момент может сделать это снова».
Уже из-за заявленного тематического ракурса выставка во Франкфурте вызвала широкий резонанс в СМИ и большой интерес со стороны публики. Можно предположить, правда, что некоторые из посетителей покидают выставку разочарованными: самых острых и актуальных тем — касающихся, например, перехода немцев в ислам (по разным данным, от 20 до 100 тысяч человек, живущих в Германии, стали новообращенными мусульманами), выставка не затрагивает.
Лишь вскользь или же исключительно в исторической перспективе рассказывает выставка и об интересе немцев к буддизму, иудаизму и православию, а также о главной проблеме западных христианских церквей — массовом оттоке верующих. «Мы сделали это осознанно, — подчеркивает Ханнес Шульценбах. — Мы считаем, что сегодня важно оценить феномен смены вероисповедания вне привязки к тем или иным актуальным аспектам».
Обсудить в сети Facebook
Карл Маркс, часть 1: Религия, неправильный ответ на правильный вопрос | Питер Томпсон
Маркс сказал, что вся критика начинается с критики религии. Это часто считается отправной точкой для позиции, которая заканчивается лозунгом «религия — это опиум для народа». Однако, как и в случае с большинством мыслителей, это сокращение до лозунгов не оправдывает стоящих за ними идей. Критика религии как социального явления не означает отказа от стоящих за ней проблем.Маркс предшествует знаменитой линии в своей Критике философии права Гегеля, утверждая, что религия была «вздохом угнетенного существа во враждебном мире, сердцем бессердечного мира и душой бездушных условий» и что понимание религии должно идти рука об руку с пониманием социальных условий, которые его породили.
Описание религии как сердца бессердечного мира, таким образом, становится критикой не религии как таковой, а мира в том виде, в каком он существует.Это показывает, что его рассмотрение религии, политики, экономики и общества в целом было не просто философским упражнением, а активной попыткой изменить мир, чтобы помочь ему обрести новое сердце. «Философы только интерпретировали мир по-разному; дело в том, чтобы изменить его», — написал он в своем знаменитом 11-м тезисе о Фейербахе, фразе, высеченной на его надгробии на кладбище Хайгейт.
Несмотря на то, что понимание и действие были тесно связаны у Маркса, мы можем проследить его понимание отдельно, через двух немецких философов, Гегеля и Фейербаха.
У Гегеля он находит концепцию идеалистической диалектики как средство понимания исторических изменений, но он использует материализм Фейербаха как инструмент для их правильного понимания. Вот почему он назвал свою систему диалектическим материализмом.
Диалектика Гегеля вовсе не материалистична. Он основан на существовании и важности идей, которые считаются почти независимыми от людей, у которых они есть. Мы просто их марионетки. По сути, это была попытка объяснить изменения в истории в период революционных потрясений вокруг Французской революции.Он спрашивает, почему происходят революции и что с ними происходит? Почему вещи не остаются прежними и почему некий мировой дух (Weltgeist) постоянно меняет свое мнение о том, каким он хочет видеть мир, и вводит новый «дух века» (Zeitgeist)? Взяв пример с Канта, добавив немного Спинозы и немного неоплатонизма, Гегель утверждал, что изменение произошло в мире, потому что оно имманентно растущему развитию чего-то еще незавершенного, но в основе которого лежит развертывание идеи. свободы человека.Таким образом, история стала просто сосудом для этого развертывания, целостностью, которая постоянно изменялась и завершалась серией конструктивных отрицаний.
Диалектика — это теория движения, которая утверждает, что в каждой данной ситуации существует свое собственное отрицание. Напряжение и взаимодействие между ситуацией и ее отрицанием постоянно порождают новые и возникающие формы социального существования. Конечно, трудно решить, что именно является отрицанием той или иной конкретной ситуации.Я займусь этим позже.
Маркс взял этот гегелевский и идеалистический диалектический подход и добавил материалистическое обоснование Фейербаха, который во многих отношениях был чем-то вроде политического Дичкинса своего времени. Для него религия «отравляет, более того, разрушает самое божественное чувство в человеке, чувство истины». Его понимание заключалось в том, что все формы религиозного самовыражения были просто абстрактными смутными стремлениями человеческого вида, переведенными в божества и их прихлебателей, или, другими словами, иллюзией богов.
Настоящий синтез дебатов между Гегелем и Фейербахом Марксом состоит в том, чтобы согласиться с ними обоими, но перевернуть их обоих с ног на голову (или снова встать на ноги, как он хотел бы) и поместить их идеи в конкретные исторические ситуации. У идеализма Гегеля и материализма Фейербаха было одно общее — их абстрагирование от реальных конкретных условий. Диалектика Гегеля действительно была способом понимания изменений в мире, но она не признавала, что изменения происходят из преобладающих материальных условий, а не из работы Weltgeist.С другой стороны, материализм Фейербаха имел дело только в абстрактной форме с тем, как люди воспринимали религию, и не определял форму, которую абстракция приняла в том, как люди, прежде всего классы, исторически взаимодействовали друг с другом.
К 1848 году Маркс, таким образом, смог открыть «Манифест Коммунистической партии», заявив, что «история всего существовавшего до сих пор общества — это история классовой борьбы». Для Маркса это был настоящий двигатель истории; настоящая борьба между реальными классами, которая привела к реальным историческим результатам, которые, в свою очередь, переросли в новую борьбу, поскольку процесс отрицания отрицания — «старый крот», как называл его Маркс, — продолжал зарываться, все время извергая новые способы мышления, которые сами по себе отрицали и изменяли мир.
В ближайшие недели я посмотрю, как все это работает на самом деле, как марксисты подхватили эстафету и каковы были последствия всего этого. Я также хочу спросить, имеет ли марксизм все еще какую-либо объяснительную силу сегодня, в новую эпоху революционных потрясений, или мы, в терминах Гегеля и Фукуямы, достигли конца истории.
Карл Маркс о религии: как религия влияет на социальное неравенство — видео и стенограмма урока
Религия: ложная правда
Маркс понимал, что религия служит определенной цели или функции в обществе, но не согласился с основанием этой функции.Для большинства религия рассматривается через веру или учения, которые считаются истинными. Религия учит морали, ценностям и убеждениям, против которых общество будет придерживаться своей оценки поведения. Маркс с трудом верил в невидимые истины. Основание его аргумента — то, что люди должны руководствоваться разумом и что религия маскирует истину и вводит в заблуждение последователей. Он считал, что когда кто-то смотрит на общество и жизнь через призму религии, он не видит реалий своей жизни. Таким образом, религия была ложной надеждой и утешением для бедных.Он видел, что бедняки использовали свою религию как средство найти утешение в своих обстоятельствах, тем самым способствуя процессу отчуждения.
Религия: опиум для масс
Опять же, Маркс не верил в следование учению, основанному на вере. Он действительно чувствовал, что это равносильно простой вере в суеверие. «Если люди хотят знать и понимать реальный мир, они должны отказаться от суеверных убеждений, потому что они оказывают наркотическое действие на разум», — сказал Маркс.Маркс считал, что религия, как опиат, дает чувство безопасности и спасения от чего-то еще. Однако он утверждал, что это все было иллюзией . Он чувствовал, что религия учит людей сосредотачиваться на потусторонних заботах, а не на непосредственной бедности, от которой они страдают. Цитируя Маркса: «Религия — это … протест против настоящих страданий. Религия — это вздох угнетенного существа, сердце бессердечного мира и душа бездушных состояний. Это опиум для людей.’
Религия и социальный контроль
Маркс считал, что религия является способом поддержки системы убеждений, идей и норм богатых капиталистов, заявляя: «Религия задумывалась как мощная консервативная сила, которая служила для увековечения господства государства. один социальный класс за счет других ». По сути, Маркс считал религию средством подавления низших слоев рабочего класса. Это была религия, которая увековечила социальное неравенство , усилив интересы власть имущих.Таким образом, согласно Карлу Марксу, религия была системой, в которой богатые постоянно становились богаче, а бедные навсегда оставались бедными.
Краткое содержание урока
Карл Маркс был немецким экономистом, чье исследование бедственного положения рабочего класса оказало значительное влияние на социологию и изучение социальных классов. Он видел мир как два класса: богатых и бедных. Таким образом, религия представляла собой систему иллюзий, и суеверий, которая увековечивала социальное неравенство , укрепляя убеждения и обычаи богатых капиталистов.Он считал, что религия только учит бедняков принимать их нынешние условия жизни и в то же время сосредотачивается на «лучшем будущем мире», и что религия была «мощной консервативной силой, которая способствовала увековечиванию господства одного социального класса в мире». за счет других ».
Результат обучения
По окончании этого урока вы сможете обсудить убеждения Карла Маркса относительно религии и социального класса.
Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих: 9780486454504: Амазонка.com: Books
Карл Маркс (1818–1883) был немецким философом, политическим экономистом, историком, политическим теоретиком, социологом, коммунистом и революционером, идеи которого сыграли значительную роль в развитии современного коммунизма. Маркс резюмировал свой подход в первой строке первой главы «Коммунистического манифеста», опубликованного в 1848 году: «История всего существовавшего до сих пор общества — это история классовой борьбы». Маркс утверждал, что капитализм, как и предыдущие социально-экономические системы, неизбежно вызовет внутреннюю напряженность, которая приведет к его разрушению.Подобно тому, как капитализм заменил феодализм, он считал, что социализм, в свою очередь, заменит капитализм и приведет к безгосударственному бесклассовому обществу, называемому чистым коммунизмом. Он возникнет после переходного периода, названного «диктатурой пролетариата»: периода, который иногда называют «рабочим государством» или «рабочей демократией». В первом разделе «Коммунистического манифеста» Маркс описывает феодализм, капитализм и ту роль, которую внутренние социальные противоречия играют в историческом процессе: Итак, мы видим: средства производства и обмена, на основе которых строилась буржуазия, были созданы в феодальном периоде. общество.На определенной стадии развития этих средств производства и обмена условия, в которых феодальное общество производило и обменивало … феодальные отношения собственности, перестали соответствовать уже развитым производительным силам; они стали множеством оков. Их нужно было разорвать на части; они были разорваны на части. На их место пришла свободная конкуренция, сопровождаемая адаптированной к ней социальной и политической конституцией, а также экономическое и политическое господство класса буржуазии.Подобное движение происходит на наших глазах … Производительные силы, находящиеся в распоряжении общества, больше не стремятся способствовать развитию условий буржуазной собственности; напротив, они стали слишком могущественными для этих условий, которыми они скованы, и как только они преодолеют эти путы, они наведут порядок во всем буржуазном обществе, поставят под угрозу существование буржуазной собственности. понимание социально-экономических изменений.
Марксизм и религия | Журнал церковной жизни
Согласно Марксу, религия играет двойную роль.На протяжении всей истории классового общества религия выполняет две важные функции: она поддерживает установленный порядок, освящая его и предполагая, что политический порядок каким-то образом определяется божественной властью, и утешает угнетенных и эксплуатируемых, предлагая им на небесах то, в чем им отказывают. на земле. В то же время, имея перед собой видение того, в чем им отказывают, религия играет, по крайней мере, частично, прогрессивную роль, поскольку дает простым людям представление о том, каким был бы лучший порядок.Но когда становится возможным осознать этот лучший порядок на земле в форме коммунизма, тогда религия становится полностью реакционной, поскольку она отвлекает людей от создания теперь возможного хорошего общества на земле, по-прежнему обращая их взоры к небу. Его освящение существующего общественного строя делает его контрреволюционной силой. Таким образом, в процессе построения коммунистического общества марксист должен бороться с религией, потому что она неизбежно встанет у него на пути. Но в коммунистическом обществе не будет необходимости преследовать религию, поскольку ее основные функции исчезнут.Не будет больше эксплуататорского класса, и простые люди не будут нуждаться в религиозных утешениях. Сама религия исчезнет сама по себе без гонений. (Это интересный пример функционализма, воплощенного в марксизме; государство тоже, согласно Марксу и Ленину, отомрет, когда станет бесполезным.)
Тем не менее по своему происхождению религия может быть поистине революционной, реальной попыткой искоренить эксплуатацию. Он становится потусторонним только тогда, когда его попытки изменить этот мир терпят неудачу.Затем его надежда на хорошее общество переносится в другой мир и в идеальной форме компенсирует бессилие человека реализовать свой идеал. Энгельс видел, что христианство претерпело эту перемену.
История раннего христианства имеет много характерных точек соприкосновения с нынешним рабочим движением. Подобно последнему, христианство сначала было движением угнетенных; он зародился как религия рабов и освобожденных, бедных и объявленных вне закона народов, побежденных и разгромленных силой Рима.И христианство, и пролетарский социализм проповедовали грядущее избавление от рабства и бедности ( По истории раннего христианства, I).
Энгельс продолжает, что, в то время как социализм кладет это избавление на землю, христианство помещает его на небо. Каутский, однако, в г. «Основы христианства», г. готовился пойти дальше. «Освобождение от нищеты, провозглашенное христианством, на первый взгляд казалось вполне реалистичным. Оно должно было произойти в мире, а не на небесах.«Перенос освобождения на небеса произошел позже.
Таким образом, основным признаком современной религии [согласно марксизму] является ее потусторонность. Это далеко от спасения, которое приносит социализм. Это происходит из осознания человеком своего бессилия в этом мире. Энгельс постоянно подчеркивает чувство бессилия человека перед природой, говоря о происхождении первобытной религии. Но не только перед природой человек бессилен; он также подавлен обществом, так что общественные процессы кажутся человеку странными и ужасными божествами.Так в древнегреческой религии олицетворялась сила необходимости, ананке, . Ученый-марксист Джордж Томсон пишет в Эсхил и Афины , что:
Во всей греческой литературе, начиная с Гомера, идеи ananke , «необходимость», и douleia , «рабство», тесно связаны между собой, причем первые обычно используются для обозначения как состояния рабства как такового, так и тяжелого труда и пыток, которым подвергаются рабы.. . . В период становления города-государства идея ananke была развита и расширена. Мало того, что раб находился под абсолютным контролем своего хозяина и лишен всякой доли в прибавочном продукте своего труда, но и сам хозяин в условиях денежной экономики находился во власти сил, которые он был не в состоянии контролировать; Таким образом, свободный человек тоже был порабощен слепой силой необходимости, которая расстраивала его желания и подавляла его усилия. Но если необходимость является высшей, а ее действия неисчислимы, все изменения субъективно кажутся случайными; и вот рядом с ананке возникла фигура тыче — противоположных полюса одного и того же представления.Вера в то, что миром правит tyche , прослеживается через Еврипида до Пиндара, который заявил, что она была одной из moirai и самой сильной из них; и в течение следующих двух столетий культ тыче стал одним из самых распространенных и популярных в Греции.
Этот отрывок характерен для марксистского утверждения о том, что боги являются олицетворением сил, господствующих в жизни человека. Когда такие силы больше не будут доминировать над человеком, не будет больше богов.
Так марксизм надеется уничтожить религию. Но остается исходное предположение, что религию необходимо учитывать. Марксизм, кажется, с самого начала предполагает, что религия явно ложна. Как он может это сделать?
Ответ на этот вопрос лежит в материализме Маркса. Поскольку материя является первичной реальностью, возможность существования бога или богов исключена. Это приводит к двум вопросам: что включает в себя материализм Маркса? А в какого бога вера исключается материализмом? Маркс унаследовал свой материализм от Фейербаха; но все, что сказал Фейербах, это то, что сознанию предшествует бытие, а не сознательное бытие.Это утверждение могло быть сделано многими верующими. Вопрос всегда в природе бытия, а не в его приоритете. Под «бытием» и Маркс, и Фейербах подразумевают «все, что есть», и утверждение примата бытия становится материализмом только из-за дополнительной веры в то, что все, что есть, является более или менее сложной организацией атомов. Энгельс использует для этого формулу «материя в движении». Поскольку все можно объяснить в терминах движущейся материи, религиозные объяснения любого события исключены.Это сразу подводит нас к ответу на наш второй вопрос. Марксисты представляют религию как предлагающую объяснение явлений, альтернативное научному объяснению. Наука объясняет в терминах потусторонней причинности, религию — в терминах потусторонней причинности. Таким образом, марксистская критика отвергает религию только в том случае, если верно, что сущностным характером религии является потусторонность, ее сущностное требование объяснять явления и ее основная функция — компенсировать человеческое бессилие и маскировать человеческую эксплуатацию.Теперь мы должны рассмотреть этот тезис.
Следует признать, что марксистская критика верна в отношении большей части религий, и в особенности значительной части религий девятнадцатого века. Доктрина трактарианцев, например, помогает проиллюстрировать критику. Достаточно подозрительно, что доктрины священства и апостольской преемственности были заново открыты англиканами как раз в то время, когда государство начало отрицать в своей практике какое-либо реальное различие между нонконформизмом и Англиканской церковью.Высокое церковное мастерство заменило социальное положение как признак стойкого англиканца. Аскетические дисциплины, которые хвалили трактарианцы, были возможны только для праздного класса; их сакраментальные доктрины не имели отношения к индустриальному обществу. Ф. Д. Морис написал о своем взгляде на крещение в 1838 г .:
Где находится служитель Христа в Лондоне, Бирмингеме или Манчестере, которого такая доктрина, искренне и внутренне поддерживаемая, не довела бы до безумия? Он послан проповедовать Евангелие.Какое Евангелие? Из всех тысяч, к кому он обращается, он не может осмелиться поверить, что есть десять, которые, в понимании доктора Пьюзи, сохраняют свою крещеную чистоту. Поэтому все, что он может сделать, — это сказать несчастным существам, которые проводят восемнадцать часов из двадцати четырех на закрытых фабриках и в тяжелом труде, развращая и развращаясь, что если они проведут оставшиеся шесть часов в молитве — ему не нужно добавлять пост — возможно, они будут спасены. Как мы можем оскорблять Бога и мучить человека такими издевательствами?
У доктрины трактарианцев была и обратная сторона; но многое из того, чему они и церковники всех убеждений учили, марксистская критика была и остается верной.
Тем не менее, если именно эта сторона марксистской критики доминировала в марксистском отношении к религии на практике почти всегда и везде, в марксизме также сохранялся совершенно иной акцент на религии как на не просто «опиате для народа» и вздох угнетенного существа », но также и« сердце бессердечного мира »( Contribution to The Critique of Hegel’s Philosophy of Right ). И это неудивительно, если вспомнить еще один аспект провалов предсказания марксизма.Маркс рассматривал религию как имеющую в настоящем и будущем — в отличие от прошлого — полностью реакционную роль, потому что он полагал, что полностью секулярное мировоззрение не может не быть принято рабочим классом, не говоря уже о прогрессивных интеллектуалах. И Маркс, и Энгельс считали само собой разумеющимся, что интеллектуальные доводы против религии были выдвинуты материалистами и скептиками восемнадцатого века. Поскольку их аргументы все еще не убедили, это было потому, что религия была вопросом не интеллекта, а социальных потребностей.Если социальные факторы, порождающие эти потребности, были устранены путем преобразования структуры общества, то религия стала бы бесполезной и исчезла бы. Действительно, Маркс и Энгельс считали, что это уже происходит. Они считали англичан особенно отсталым, но Энгельс, упрекавший англичан за их изолированную привязанность к религии, считал, что континентальные влияния 1850-х годов скептического и атеистического толка сдвинули с мертвой точки даже респектабельные средние классы. Скептицизм, как он выразился, пришел с салатом.Английский рабочий класс Энгельс считал, что он далеко продвинулся по пути к полной секуляризации. Уже в 1844 году он представлял себе победу неверия почти как свершившуюся. Однако он ошибался в двух важных отношениях.
Первое и менее важное касается актуальной истории секуляризации; в Англии он был медленнее и менее эффективен, чем предсказывал Энгельс. Католическая церковь, например, в Англии, как и повсюду, сохранила верность некоторым слоям промышленного рабочего класса.Но более важен второй, совершенно иной тип ошибки. Ибо секуляризация не привела к тому, что рабочие классы — или даже любая другая социальная группа как группа — приобрели новый и более рациональный набор представлений о природе человека и мира. Скорее, люди были лишены какого-либо всеобщего взгляда и до этой степени лишены одного возможного источника понимания и действий. Таким образом, по крайней мере в том, что касается передовых индустриальных обществ, за пределами тех обществ, где марксизм пропагандируется государством, условия, враждебные религии, кажутся враждебными и марксизму.Очевидные исключения из этого правила кажутся только очевидными. Номинальная марксистская преданность значительной части французского рабочего класса, например, является лишь ослабленным содержанием старого радикального секуляризма в новой одежде; и поскольку французское общество развивается технологически и технически, оно также разрушается. В такой ситуации приверженцы и сочувствующие марксизму не были неестественно более склонны отмечать сходство между марксизмом и христианством именно в том виде, в котором я имел дело.Нечувствительность к ним в целом проявляли только враждебные критики марксизма. Маркс и Энгельс давно провозгласили Томаса Мюнцера духовным предком; и современные марксисты написали несколько сочувственных исследований милленаристской религии. Как же странно, что сходство между революционным марксизмом и такими религиями было отмечено некоторыми критиками как неизбежно дискредитирующий факт. Неудовлетворительный характер таких дискуссий частично объясняется неисследованными либеральными светскими предположениями критиков.Однако это также отчасти связано с неспособностью различить различные черты аналогии между марксизмом и христианством.
И марксизм, и христианство спасают отдельные жизни от незначительности конечности (если использовать гегелевское выражение), показывая человеку, что он играет или может сыграть какую-то роль во всемирно-исторической драме. Драматическая метафора здесь не лишена важности. Маркс в книге «Восемнадцатое брюмера года Луи Бонапарта » видел функцию идеологии в прошлых революциях как создание драматической основы, которой в противном случае не хватало бы самим событиям.Но революция девятнадцатого века, по его словам, была направлена на то, чтобы «черпать поэзию из будущего». Теперь нужен не драматург, а сама история. Христианство не может обойтись без представления о людях, участвующих в космической драме. Литургия — это реконструкция этого понятия. Но если религия способна создать идентичность, которая превосходит идентичность, которую существующий социальный порядок наделяет индивидами, и которой она хотела бы ограничить их (так что это послание реакционной религии, что это сам Бог желает ограничить нас, «на том месте», куда он с удовольствием называл нас), верно также и то, что принесение в жертву людей ради вечных целей является неотъемлемой частью религии, и обе стороны этого феномена перенесены в марксизм.
Процесс, посредством которого они переносятся, нельзя понять отдельно от всего того регресса марксизма, который я обсуждал ранее и который возник в обожествлении партии, истории или того и другого. Это возрождение идеальных сущностей в истории марксизма делает понятными те поверхностные феномены марксизма, которые настолько очевидно религиозны, что стало банальным замечать их. Культовое сохранение тела Ленина — выдающийся пример. По-прежнему очевидным, но гораздо более важным является лечение отклонений от убеждений.Очевидно, что кто-то, кто был марксистом, может в какой-то момент изменить свои убеждения таким образом, что совместные действия со своими бывшими товарищами станут невозможными; но часто в марксистских движениях требовалось общее согласие с убеждениями, которые не предполагают немедленных действий или действий в обозримом будущем, и что касается конкурирующих предсказаний, марксисты почти не предпринимали попыток прийти к согласию по поводу единого мнения. способ урегулирования разногласий и ожидания результата. Единообразие верований, как и в религии, часто, кажется, ценится марксистами само по себе.Я имею в виду дисциплинирование советского экономиста Варги за его взгляд на послевоенную Европу. Этот пример также подчеркивает тот факт, что неспособность марксизма освободиться от своего религиозного наследия облегчила марксистам разработку концепции науки, совершенно отличной от концепции Маркса и Энгельса. Оба они проявляли интерес к прогрессу науки, свойственный их возрасту. Научные труды самого Энгельса имеют крайне сомнительную ценность. Но будет справедливо сказать, что он принял естествознание как продолжающуюся деятельность со своими собственными стандартами и методами.Представление о том, что может существовать специфически марксистская наука в противоположность «буржуазной науке», чуждо его мысли. Корни этого сталинского представления лежат в религиозной концепции верований о мире, которым не нужно выводить свою обоснованность из наблюдаемых фактов. Мошеннические эксперименты Лысенко являются аналогом тех мошеннических случаев чудесных плачущих или истекающих кровью статуй, которые когда-то большевики с таким удовольствием демонстрировали в своих антибожьих выставках.
Но слишком много внимания к этим относительно поверхностным явлениям может ввести в заблуждение; они принадлежат к порочному марксизму, и если марксизм коррумпирован, это, как должны были хорошо понимать сами марксисты, является возможной судьбой любой доктрины, которая функционирует как выражение социальных сил.Христиане, которые используют эту точку зрения для критики марксизма в целом, должны помнить, что именно то, что объединяет марксизм с христианством, делает его особенно уязвимым. Либералы, которые слишком часто выступают с такой критикой, хотят игнорировать марксистскую критику либерализма. И либералы, и христиане слишком склонны забывать, что марксизм — единственная систематическая доктрина в современном мире, которая смогла в какой-либо значительной степени воплотить надежды, однажды выраженные людьми, и которые не могли не выразить в религиозных терминах, в светский проект понимание общества и выражения человеческих возможностей и истории как средство освобождения настоящего от бремени прошлого и, таким образом, построения будущего.Либерализм, напротив, просто отказывается от добродетели надежды. Для либералов будущее превратилось в увеличенное настоящее. Христианство по-прежнему неразрывно связано с социальным содержанием, от которого оно должно отречься. Марксизм как исторически воплощенный феномен мог быть деформирован самыми разными способами. Но марксистский проект остается единственным, который у нас есть для возрождения надежды как социальной добродетели.
От редакции: Этот отрывок из главы 7 из ранней книги Аласдера Макинтайра (первоначально опубликованной в 1968 году, за много лет до его обращения в католицизм) «Марксизм и христианство» является частью продолжающегося сотрудничества с University of Notre Dame Press.Наша цель — познакомить наших читателей со всеми мыслями Макинтайра. Мы надеемся, что это усилие поможет нашей аудитории уточнить нюансы многих публичных дебатов, в которых мысль Макинтайра используется для решения насущных проблем современности. Очерки из серии будут собраны здесь .
(1818–1883) Социальный экономист, родился в Трире, Германия.Отец Маркса был юристом, который, поскольку его еврейская религия заставила его лишиться После окончания университетов в Бонне и Берлине, с дипломом Теория религии Теория религии Маркса (Marx and Engels 1975: 38 f) должна Религия отвлекает людей от их Этот отрывок ясно иллюстрирует точку зрения Маркса о том, что религия И Маркс, и Энгельс отвергли анархистов, таких как Сопутствующим фактором является развитие религии как Но разве люди не знают своих интересов? Не люди Религия как социальная Для Маркса религия — это одна из граней того целого, которое он называл Религия как доминирующая идеология В Немецкая идеология , Маркс (Маркс и Энгельс 1976 Одним из средств передачи идей является церковь. Маркс и иудаизм Оппозиция Маркса христианству была чрезвычайно мягкой. Это враждебное отношение возникло не из-за недостатка знаний. Несмотря на ряд проблем с его идеологией и — Ойген Шёнфельд Список литературы N. Abercombie et al., The Dominant л.С. Фейер, Маркс и . Халви, Рождение К. Мангейм, Идеология и утопия Маркс К. «О еврейском. К.Маркс и Ф. Энгельс, Маркс К. и Энгельс Ф., О религии К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкий Ф. Ницше, «Генеалогия E.П. Томпсон, Создание |
Маркс и Священное | Церковно-государственный журнал
Религиозные страдания являются одновременно выражением настоящих страданий и протестом против настоящих страданий. Религия — это вздох угнетенного существа, сердце бессердечного мира и душа бездушных состояний. Религия — это опиум для людей. 1
Возможно, самое серьезное препятствие на пути к поиску смысла священного у Маркса состоит в его неоднократных и часто полемических заявлениях против религии.В самом деле, такое препятствие может в конечном итоге быть нашим собственным созданием, поскольку мы оказались в ловушке лабиринта нашего собственного исторического понимания. Тем не менее, если предположить на данный момент, что религия и священный — это одно и то же явление, если мы примем его заявление (во вступительной цитате) о том, что религия — это опиум для людей изолированно, мы можем прийти к выводу, что что Маркс считал, что в лучшем случае религия — и, следовательно, «священная» — это наркотик, который, хотя и может использоваться для облегчения боли, остается иллюзорным улучшением ситуации отчаяния.Религия как опиат не только подразумевает успокоение от боли эксплуатации, но также предполагает систематическую и стратегическую попытку заглушить или поглотить любой критический импульс к освобождению. В этом смысле характеристика религии как опиата Марксом является предшественником многих из самых радикальных критических замечаний религии в теологии и философии двадцатого века — Гутьерреса, Миранды, Бультмана, Хайдеггера и Батая. Каждый из этих мыслителей по-своему сформулировал чувство священного после Маркса и его деконструкции религии как идеологии.
Родство, которое разделяют все эти мыслители, представляет собой пренебрежение простой религией в пользу «священного». Религия одновременно конструирует «картину» ( Bild ) для созерцания ( Anschauung ) и организацию, культивирующую нашу зависимость от этой «картины». Священное, напротив, указывает на обязанность и приверженность, а также на активный, позитивный извержение освобождения среди ограниченного существования. Религия конструирует свою вечную церковь как вечное увековечение «изображения» идола, в то время как священное ликует в этот момент прожитого существования в haeccitas Дунса Скота.Если религия — это «рациональное» и «систематическое» сочетание чувств и явлений, священное — это попытка найти доступ к феномену, выходящему за рамки объективации следов numen . В самом деле, для Отто нужно просто начать посреди этого необычного события.
В свете этого предварительного различия между религией и священным, задача настоящего исследования «Маркса и священного» состоит в том, чтобы раскопать и раскрыть в трудах и исторической деятельности Маркса утвердительное понимание священного, которое является в отличие от его изначально негативной концепции религии.Среди сочувствия Маркса к «вздоху угнетенного существа» мы можем увидеть ощущение священного, отделенного от религиозного левиафана , который всего лишь служит для увековечения страдания — священного, которое существует как радикальное стремление к освобождению. Таким образом, я буду утверждать, что критика Марксом религии как идеологии угнетения и успокоения никоим образом не исключает возможной связи с попытками двадцатого (и двадцать первого) века сформулировать смысл священного.В этих последних попытках, , проявляется возможность открытости, которая создает пространство для личной встречи с чувством священного, не опосредованным идеологией.
Таким образом, то, что будет раскрыто как «единство» и согласованность в этих встречах Маркса с различными направлениями теологии и философии двадцатого века, является внутренним ядром «обязательства» и «обязательства» утверждения против нигилизма. и угнетение — это «внутреннее ядро» есть открытость Священному.То, чего добиваются, является указанием в трудах и пропаганде Маркса личного выражения и артикуляции сакрального, которое выходит за рамки как научного прогнозирования, так и политической защиты. Мы ищем более глубокую основу священного у Маркса.
Отто предполагает в первой части своей основополагающей работы Идея Священного , что существует нерациональное, неморалистическое и неясное чувство, очарование и страх, вслед за нуминозным , Mysterium Tremendum , Август , который намекает смертному «я» на радикально подавляющую силу святого, священного.Такое понимание стоит вне рационалистической, моралистической программы просто религии как идеологии, просто аполлонии. Это то, что стимулирует, пробуждает смертное существо к утверждению священного — в колодце чувств среди этого дионисийского извержения события. Такое подстрекательство разыгрывает и намекает на ощущение священного в мире, выраженное в поэзии, произведении искусства и praxis . Это призыв к радикальной феноменологии священного — не рационалистической морали или догмы — простой религии — но священного утверждения, которое, по Марксу, расположено среди исторических topos Капитала.
Идеология — это картина, которая проблемно указывает на правду мира. Картина несвоевременна — демонтрализована — и, таким образом, представления, образы «естественного» вида, населения, нации, расы и человечества являются просто идеализацией (и стиранием) конкретных ситуаций живого существования … этого места раздоров, конфликтов и любви. «Идеальное единство» и конечный смысл, картина «жизни» — это идеология, которая действует как стирание временного освобождения среди этого раздробленного существования предполагаемого «человечества» — другой идеологии.Для Маркса существует временная и экзистенциальная диалектика действия среди диссонирующей и принудительной матрицы земной власти. Эта диалектика указывает на актуальность свободы, свободного существования. Тем не менее, приверженность Маркса такой возникающей действительности свободы вступает в конфликт с религией как дисциплинарной матрицей индивидуальной души. Однако, если мы можем согласиться с тем, что просто религия играет отрицательную или успокаивающую роль в мысли Маркса, это не исключает возможности экзистенциальной или этической открытости утверждению священного.В самом деле, как я постараюсь показать, сама критика религии Марксом в контексте его сочинений и действий указывает на утверждение священного . Что существенно, так это открытость , которая, вслед за Отто, Бонхёффером, Элиаде, Альтизером и другими, устанавливает личную приверженность, которая выходит за пределы, подавляет самость — экзистенциально предшествует постулированным «основам» «теории» и «практики». — это момент экстатического «события» за пределами , но как , существования. 2
Тексты, которые приводят меня непосредственно к священному у Маркса, — это его ранняя поэзия (и следы его поэзии , которые проявляются на протяжении всей его жизни и более поздних работ).Я попытаюсь восстановить священное в его ранних стихах и произведениях, которые недвусмысленно подтверждают личное, экзистенциальное обязательство и приверженность революции. В ранних поэтических сочинениях мы можем найти начало его пожизненной приверженности — до философии .
Я отказываюсь просто отвергать эти работы как просто незрелые вспышки «энтузиазма» (это значило бы закрепить понятие линейного темпорального развития мыслителя — в периоды, что я считаю подозрительным).Маркс, возможно, дополнил свое раннее сочинение стихов конкретными текстами эпиграммы и социального теоретика, но прослеживает поэтического открытия, которые сигнализируют о его утверждении, его обязательствах, пересекают все его так называемые зрелые работы, начиная с литературные и риторические драматические произведения, такие как «Коммунистический манифест », «Восемнадцатое брюмера» и «Святое семейство» , со следами его раннего поэтического осознания в его многочисленных ключевых упоминаниях Шекспира в « Capital » и его более раннем вкладе и Grundrisse .Его открытие и начало в poiesis контрастируют, но в конечном итоге дополняют его представление о praxis . Его поэзия знаменует собой брешь в обычном изображении его работ как чисто научных или, как пишет Миранда, «западных». Поэзия Маркса направляет и окутывает его «научную» прозу. Как пишет Гераклит: «Невидимая связь сильнее кажущейся». 3 «Анализ» Маркса — это не анализ бескорыстного наблюдателя, находящегося в безопасности на острове знания.Он пишет посреди действия, по траектории обязательства, приверженности и praxis . Таким образом, его сочинения можно охарактеризовать как поэтики существования. 4
В этом свете я пытаюсь раскопать священный импульс, выраженный в поэзии Маркса, который продолжает подчеркивать и находить выражение в его произведениях и жизни. В самом деле, помимо текстов и намеков на [не] сказанное, есть безошибочное подтверждение в жизни Маркса — особенно в его политической защите и в его трудном отцовстве.Я не верю, что мы, , должны рассматривать Маркса как простого политического редукциониста, наркомана — или как одномерного человека 5 — он мог быть «атеистом» 6 в отношении иудео-христианских или исламских традиций , но это не значит, что он должен стоять вне священного. 7
Далее я начну с вопроса о значении Маркса в полемике вокруг «непрерывности» или «прерывности» работ Маркса. Сначала я изложу интерпретацию существующих утверждений, сделанных Марксом относительно религии как таковой в Критике религии Маркса , предоставляя критику идеологии как Weltanschauung , которая пытается запретить стратегию интерпретации, ориентированную на praxis .Я прослежу это с развитием различия между религией и священным в г. От религии к священному г.
Не умаляя необходимости приверженности Маркса революционному социальному преобразованию мира, я исследую возможность утвердительного понимания священного в Марксе , выходящего за рамки жертвенной логики простого политического и социального насилия. Событие диалектического praxis , революции как интимности мысли и действия исключает просто волюнтаристскую (или, наоборот, «научную») интерпретацию Маркса.В духе Райнера Шюрмана, 8 , мы можем прочитать Маркса задом наперед, желая понять корень его утверждения. Тем не менее, в отличие от чтения работ Хайдеггера, мы должны читать Маркса вперед и затем назад, как бы по кругу, чтобы попытаться выявить не только последовательные экзистенциальные и социальные взгляды Маркса. ethos , но также и его утверждение революции как события среди этого конечного момента.
Критика религии Марксом
Маркс излагает свою первую философскую критику религии , присваивая фейербаховскую гуманистическую критику и инверсию не только Гегеля, но и христианства.Возвращаясь к поэзии Теогниса, такая чувственная инверсия религии вынуждает нас стать, как писал Батай, дезинтоксикацией 9 — больше не стоять на наших головах — но рассматривать религию как то, что это , поскольку абстракция «настоящего мужчины» до «идеального человека». Такая идеализация составляет отчуждение в утрате свободы действия по отношению к этому слишком человечному уловку, которое, по мнению Фейербаха, проявляется в забвении конкретного происхождения произведения искусства — в человеческой чувственности.Для Фейербаха достаточно было просто осознать такую утрату и отчуждение, чтобы раз и навсегда восстановить сущность человечества — для Маркса Фейербах остается идеалистом, созерцателем.
Простоты и гениальности идеи Фейербаха о том, что Бог является идеальным воплощением устремлений человеческого вида, было недостаточно для Маркса. Хотя он не стал в конечном итоге отрицать возможность полетов желания, мысли и пребывания «вовне», как в момент революционной апории , Маркс также потребовал материалистической деконструкции реальных интересов религии в слово, мысль и дело.Простое озарение, простая мысль никогда не сможет разрушить этот материальный субстрат, ту конфигурацию земной силы, которая изначально задает гегемонистские параметры, горизонты для мышления — которые отрицают этот этос существования . Напротив, в основе любой теоретической деятельности должно быть радикальное диалектическое преобразование реальных условий существования, чтобы произошло преобразование и альтернативное раскрытие в идеальном отражении или мысли о бытии.
Маркс утверждает, что критика религии является предпосылкой любого конкретного анализа реальных социальных отношений человеческого существования.В самом деле, критика религии — это не просто упражнение в размышлениях. Это требует сопротивления и отказа от ритуалов внешнего воздействия. Для этого требуется экзистенциальный praxis . Религия, в отличие от священного, становится идеологией, поскольку для Маркса она является отчужденным продуктом отчужденного существования . Как отчужденная деятельность среди матрицы систематического отчуждения, ее собственная самоинтерпретация отделена от любого непосредственного осознания условий ее возникновения и поддержания — такого, которое у Ницше и Батая скрывает свои собственные темные корни.Следовательно, это не может быть ничем иным, как маской, скрывающей конкретную правду человеческого существования. В этом разделе я изложу критику религии Марксом как простую идеологию . Хотя ниже я буду доказывать, что критика религии Марксом уже выражена в его поэзии, его первоначальная философская критика религии () находится под сильным влиянием Фейербаха и гуманистической критики абсолютистского идеализма. Шаг Маркса за пределы , к материалистической критике религии, является конкретизацией и конкретизацией понимания Фейербаха.Тем не менее, несмотря на значительные следы Фейербаха в более позднем Марксе, как, например, в понятии товарного фетишизма, сформулированном в «Капитале », , деконструкция религии Марксом допускает неявную возможность восстановления неотчуждаемого чувства священного как конкретного человеческая деятельность и рефлексивность через praxis . Хотя Маркс отходит от Фейербаха, для следующего исследования критически важно, чтобы в трудах Маркса существовала глубокая преемственность. Именно эта преемственность должна положить конец неправильно истолкованному «эпистемологическому разрыву».Я попытаюсь раскрыть контуры этой преемственности и доказать, что только с этой точки зрения мы можем наиболее ясно увидеть различие у Маркса между религией и священным.
Давайте начнем с одного из самых прямых утверждений Маркса о простой религии,
Религия — это общая теория этого мира, его энциклопедический сборник, его логика в популярной форме, его спиритуалистический point d’honneur, его энтузиазм. , его моральная санкция, его торжественное дополнение, его универсальный источник утешения и оправдания.Это фантастическое осознание человеческой сущности, потому что человеческая сущность не имеет истинной реальности. Таким образом, борьба с религией — это косвенная борьба против мира, духовным ароматом которого является религия. 10
Пока «фантастическое осознание» встроено в великие нарративы идеалистического религиозного обучения, однако, не существует возможности исследовать интимные траектории пути или способа временного вторжения в священное. Простыми мыслями мы не можем почувствовать духовный аромат религиозного культа.Таким образом, религия как конкретное указание на существование является симптомом действительности, в которой человечество отчуждено от своего собственного самопонимания. Стремление к истине священного должно преодолеть простую мысль и практические утилитарные уловки религии. Он должен быть пробужден к собственному свободному существованию. Как я буду доказывать ниже, такая ситуация отчуждения указывает на отделение человечества от подлинного чувства священного. Религия как идеология препятствует пробуждению к сокровенному и подлинному чувству священного, как и в случае с другими идеологическими формами, такими как просто политика, просто искусство и просто философия.В самом деле, если возможно, как предлагает Маркс в Экономических и философских рукописях , достичь посредством революции неотчуждаемого чувства социального бытия и социального праксиса , то казалось бы возможным достичь не- отчужденное чувство священного. Казалось бы, это указывает на чувство священного, которое является не просто фантасмогорическим продуктом простой мысли и идеологии, но подлинным сингулярным и социальным praxis , освобожденным от ловушек состояния отчуждения.
Начиная с фейербаховской инверсии и трансформации гегелевской диалектики, Маркс настаивает в Тезисах о Фейербахе , Экономических и философских рукописях и в Введение в критику философии права Гегеля , что подлинные интересы «универсального гуманизма» оставалось окутанным аисторическим режимом сознания в матрице религиозной идеологии. В этой интерпретации традиционный главный референт «Бог» и теологическая инфраструктура, сформулированные на основе такого предположения, сохраняются как потерянное произведение искусства — в конечном итоге человеческого происхождения, но забытое в его генеалогии .Маркс пишет, что религия — это «самосознание и чувство собственного достоинства человека, который либо еще не нашел себя, либо уже снова потерял себя». То, что было создано людьми, приобрело абстрактное влияние над людьми, в том смысле, что происхождение произведения искусства было стерто. Среди повествования о «сознании» наши собственные творения получили свободу действий и получили против нас . Отчужденное социальное существование порождает отчужденное сознание. Мы больше не можем видеть или слышать эти контуры нашего существования, поскольку мы воспринимаем только то, что указано в свободно плавающей матрице навязанной интерпретации.Как предлагает Миранда, мы не ставим под сомнение законность владения капиталом или очевидную справедливость системы заработной платы, поскольку, как пишет Витгенштейн в своем Philosophical Investigations , «картина держала нас в плену, и мы не могли освободиться от это так, как неумолимо повторяется на нашем языке ». По мнению Миранды, картина должна быть уничтожена среди зарождения царства божьего среди вторжения Яхве. Другими словами, «смерть Бога» для Алтизера означала исполнение любви в момент существования.Мы сейчас здесь вместе, и мы можем делать все, что захотим, среди этого временного открытия. Среди существования возможность выражает смысл этого явления, моего собственного «я».
Тем не менее, язык идеологии — это сам по себе «феноменализм». Он указывает, указывает на то, что будет определять «факты», которые будут служить для воспроизведения его собственного существования, его теории или морали. Мы заговорили со смертью. Эти слова дают нам мир. Но эти слова служат просто для того, чтобы скрыть то, что существует — по крайней мере, с конкретной точки зрения оспаривания «каких» фактов.Нам все рассказали, но ничего не показали. И, как и в случае с Мирандой и другими, кто бросает вызов всему зданию религии и культа, Маркс натолкнулся на борьбу за истину после систематической фальсификации существования «религией», «культом жертвы». Это поднимает вопрос об отношении священного и революции.
В произведениях Маркса, написанных под влиянием Фейербаха, чувствуется отход от чисто религиозной, хотя и отрицательной («против») чувствительности, которую можно найти, например, в «Сущности христианства » Фейербаха.Знаменитый одиннадцатый тезис , «Философы только интерпретировали мир по-разному, дело в том, чтобы изменить его», который, кажется, призывает действовать вместо интерпретации, служит переходом от простой мысли к практике среди повседневности и существования. Тем не менее, он не работает среди какого-либо нового эпистемического события — Одиннадцатый тезис сродни всем ранним работам Маркса. Уже в своей поэме « Эпиграмист » Маркс отдает предпочтение конкретным действиям против религиозности и идеологичности моральных демагогов, даже таких, как созерцательная поэзия Шиллера.В самом деле, конкретное действие или praxis человеческого существования занимает центральное место в Экономических и философских рукописях или Парижских рукописях 1844 года, текстах, написанных, как и в Введении к критике философии Гегеля. Справа (1845 г.), под сенью «огненного ручья». 11
Положение одиннадцатого тезиса не означает, что Маркс просто отказался или когда-либо откажется от интерпретации как радикальной критики или даже от методологии инверсии, которую он организовал в своих более ранних работах.Несмотря на множество академических и политических теоретиков разрыва, которые стремятся оставить Маркса рассеченным на столе для резки — в эпистемологическом перерыве — Маркс продолжал свою жизнь писательской и политической защиты, непрерывно излагая занятые интерпретации, анализ, изображения и стихи « ситуации »и« законы движения »« мира ». Для Маркса интерпретация претерпевает трансформацию смысла — среди praxis .
Критическая герменевтика и стратегия инверсии продолжают проявляться в работах Маркса, даже в тех, в которых он сотрудничает с Энгельсом, таких как Святое Семейство , радикальная и часто комическая критика идеалистических философий так называемой молодежи. Гегельянцы и в «Немецкой идеологии » , тексте, не опубликованном при его жизни.В обоих этих текстах фейербаховский гуманистический фундаментализм вытесняется материалистическим анализом истории. В этих критических работах последовательно сочетается конфронтация с идеалистической и неисторической «интерпретацией» человеческого существования, камера-обскура , паразитирующая на абстракции человеческой сущности , которая проецирует вечный образец, который, как считается, обладает исключительной исключительностью. доступ к раскрытию «Природы». С одной стороны, такой образ или картина мира ( Weltanschauung ) не признает радикального исторического характера человеческого существования; с другой стороны, такая картина просто служит для усиления концепции и этоса человеческого существования, которое изображается как естественная и, следовательно, неизменная статическая ситуация.Такая картина просто заслоняет существование в его извержении среди борьбы .
В этом суть критики религии Марксом — «объективной» науки и «систематического», «рационального» богословия — она просто служит идеологическому упреждению этической интенциональности, этической значимости нашего жизненного мира, возможность радикального раскрытия и трансформации ситуации и контуров человеческого существования. Таким образом, разоблачение Маркса является более сложным, чем простой отказ от интерпретации человеческого существования, которое проектирует себя как вечный образец.Он никогда не бросает лестницу. Его мотивы также экзистенциальны в том смысле, что он деконструирует метафизику интерпретации, которая проецирует типологию интерпретации, которая не только рисует статический образ того, что является существованием , но также, в соответствии с этим изображением, служит для консолидации доминирующей идеологии, считающей невозможными изменения.
Простая интерпретация — «научный метод» — в том виде, в каком он существует, в контексте критики Маркса, за пределами водоворотов экзистенциальной темпоральности и историчности, дает интерпретатору — надежному, вечному наблюдателю — ощущение, что он может создать мир по его собственному образу.Интерпретатор, в этом смысле , отстраняется от исторических событий и просто описывает то, что в позе объективности является трансцендентальным субъектом современности, созерцателем идеологии, христианским эго в секулярном мире. . Маркс пишет, что религия — это «иллюзорное солнце, которое вращается вокруг человека, пока он не вращается вокруг себя». Такой жест пробуждает дух Джордано Бруно против чисто коперниканской метафизики Канта, который открывает возможность интимной самоинтерпретации человеческого существования, которая сопротивляется «безопасным» уловкам идеологической фальсификации.Бруно писал, что центр был повсюду, что каждое тонкое существование открывается к Священному. Такое понятие радикальной имманентности ниспровергает прочную и надежную архитектонику субъективности, которая могла опираться только на структуру трансцендентности, неуязвимую для радикального чувства возвышенного. Структура трансцендентальной субъективности, поскольку она защищена от подавляющей возвышенности священного события, корней возвышенного, темпоральности или, как предполагает Отто, из числа нуминозного , представляет собой безопасное место, где «субъект» защищен от радикального импровизированного смысла существования.Возвышенное в контексте Третьей критики Канта становится не чем иным, как спектаклем , рассматриваемым с безопасного расстояния защищенной внешности, трансцендентным субъектом, который является безопасным островком… очень маленьким, почти ничем.
Для Маркса такая удобная станция не подходила. С его указанием на praxis и с серьезными внутренними последствиями его политической защиты (не говоря уже о шаткой ситуации его жизни в бедности в Лондоне), больше не было возможности научного исследования восемнадцатого или даже девятнадцатого века. (Просвещение или дарвинизм) объективность к его исследованиям, но вовлеченная практика , через которую он учился, действуя в своем мире.Опять же, это не означает, что Маркс просто отказался от интерпретации как таковой. Это должно было бы обозначить возможность радикально иной типологии интерпретации — типологии, в основе которой лежит крик угнетенных, даже крик самого себя, когда он тридцать пять лет шел в Круглый читальный зал Британской библиотеки. , так как он , возраст года в понимании Левинаса. Например, можно утверждать, что «Капитал » Маркса «» — это работа интерпретации, герменевтика , поэзия существования.И, читая эту работу, понимаешь, что это не просто мифологическая интерпретация «начала», как у более ранних политэкономов с «естественным государством» (миф об охотнике и рыбаке), и не работа, призывающая к видимости научной методологии объективного, паноптического или божественного наблюдателя. Это задействованных работ, одна из революционных пропагандистских работ, но также и работа, наполненная бесчисленными фактическими данными и документацией о реальном положении рабочих (ср.Chapter 10, О рабочем дне ) и владельцев капиталов в новой матрице исторического существования, которую Маркс назвал капиталистическим способом производства. Однако работа Маркса, следовательно, не является продуктом позитивизма эмпирического описательного обобщения, как индуктивные работы писателя из рабочего класса Дицгена, которого Маркс называл «нашим философом». В «Капитал » присутствует сильная интерпретативная и герменевтическая изощренность — и есть наследие Фейербаха в «Капитале » в его исторической и политико-экономической артикуляции. 12
То, что действительно раскрывает критику религии Марксом, — это последовательная критика идеалистической абстракции с точки зрения живого существования. Эта перспектива подчеркивается выбором Марксом слов для описания этого нового исторического созвездия — фетишизм . Именно в этом свете мы можем по-новому взглянуть на одиннадцатый тезис Маркса . Маркс критикует не интерпретацию как историческую герменевтику, ориентированную на praxis (или poiesis в сакральном смысле), а идеализированные проекции, которые пытаются выйти за пределы историчности человеческого существования — всегда плохая поэзия , которая просто служит власти.В то время как Маркс излагает свой (и Энгельс) великий рассказ об историческом материализме в «Немецкая идеология » (осужденный на критику крыс и мышей), он, старый крот , вовлечен в неминуемую перспективу praxis . в интимной герменевтике человеческого существования, артикулированной на горизонте особого открытия историчности. Товар является последним проявлением и modus operandi Адама и Евы, неумолимого повествования и театра человеческого бессилия.Товар — это наш бог, наш фетиш. Маркс, кажется, больше не должен говорить о религии как таковой , поскольку вся эта пустая болтовня — псевдорелигия — катастрофически затмевается псевдоренессансом девятнадцатого века. Но это возрождение, которое также свидетельствует о затмении подлинного представления о Священном. Религия и священное отождествляются в матрицу одного и того же. Не только это, но и новый бог, товар, как фетиш, излучает резонанс того, что совершенно нечестиво — имея в виду другую коннотацию термина фетиш — в возвышенном духе маркиза де Сада, которым так восхищался Жорж. Батай.Религия скрывается в своем концентрационном лагере. Это концлагерь. Однако священное утверждение прорывается посреди этой «жизни».
Маркс играет здесь с протестантской идеологией как с новым духом капитализма и с христианством как с «особой религией капитала». 13 Он не только предполагает возможность того, что капитализм представляет собой отход к так называемым «диким» религиям, который так оскорбил бы иллюзии превосходства новоизбранной христианской элиты, но и то, что сама наша ситуация страдания является извращенным желанием. — фетиш.Мы пристрастились к нашим недугам, к нашему богу и к нашему мазохистскому простиранию простому «культу», как предлагает Миранда. Такое простирание перед «Великим инквизитором» из cultus — это отказ, отказ от утверждения и культивирования священного. Безумец Ницше кричит, как новая Кассандра, что Бог мертв в его Так говорил Заратустра и Веселая наука . Его никто не слушает, но каждый чувствует следы того, что он говорит.Но смерть бога не означает и не должна означать, что нет ничего святого, что нет ничего божественного. Священное начало не заканчивается деконструкцией религии Марксом или возражениями Ницше против простого платонического или аристотелевского «христианства». Действительно, толчком для таких воплей в пустыне, как и любого пророческого вмешательства, было и остается то, что существует священное, которое не было уничтожено поверхностными отказами научной или религиозной гегемонии. Деконструкция является одновременной предпосылкой утверждения Священного.Критика религии Марксом состоит в противостоянии неисторическому идеализму и моралистическому рационализму, который, из-за своей неспособности раскрыть истину человеческого существования, служит лишь для маскировки исторического состояния самообмана и извращенного самоуничтожения. Религия или вневременная, но преемственническая идеология власти не связана или экзистенциально не осознает интимного утверждения священного.
Маркс не нуждается в прямой формулировке доктрины священного — или возможности неотчуждаемого смысла священного после коммунизма года.Его утверждения достаточно — действительно, коммунизм был только средством для того, что могло возникнуть — он всегда уже на Священной земле в своем , принимая сторону со слабыми и угнетенными. В самом деле, Миранда утверждает, что praxis земной справедливости, любви [является] самим священным, которое для него рассматривается как бог освобождения, справедливости и любви. Такая возможность и поведение очевидны в , показывающем жизни, полной конфронтации и защиты другого мира.Как пишет Кант в своей книге Religion , поступки и жизнь человека указывают на его характер. Поэзия Маркса и его поэтические отсылки к его более поздним произведениям и его действиям служат симптомами или указаниями на желание, утверждением, которое является конкретной актуализацией интенциональности по отношению к священному открытию и среди него. В самом деле, хотя маловероятно, что Маркс работает в рамках горизонтов Библии, он, в своем утверждении, выполняет предписание пророков против высказываний или изложения образа бога.Такой образ — симптом существования, создавшего маски, чтобы скрыть и запретить возможность общения. То, что лежит за пределами образа, является утверждением священного praxis .
Простая религия как инструкция, как идеологическая дисциплина сотрудничает с десакрализацией мира — с затмением священного. Не осталось ничего, кроме слов, которые указывают на ничего, , которые раскрывают ничего, . Отказ от этих ничтожеств — мириадов хаоса существ, входящих и покидающих «ЭТО» мир, которые отличаются от Ничто , превосходящего по Хайдеггеру, — это отказ от этоса и методологии, которая служит для уменьшения событие существования либо для аисторического нарратива, не имеющего феноменологической или экзистенциальной релевантности, либо для научного нарратива описательной повседневности.Маркс не заинтересован в создании марксистской науки или марксистской политики — он сталкивается с бездной товара, с этим простым существом, которое определяет наше отчужденное, капиталистическое «сознание» — с тем, что зевает между вами и мной. Мы не можем делать вид, что этой пропасти нет — что мы можем игнорировать ее. Игнорируя эту ситуацию, мы более твердо подтверждаем нашу ситуацию жалкого заключения. [Человечество] поражено своими собственными инопланетными проекциями и измышлениями. Маркс побуждает нас осмыслить наши собственные конкретные ситуации и затруднения … он озабочен не только рабочими — «мы» все отчуждены — друг от друга.Здесь должно быть что-то более глубокое.
От религии к священному
Религия в диалектическом материалистическом анализе не отвергается просто как идеализм или фантом — как если бы простое опровержение идей могло привести к испарению религии. Действительно, Маркс использует термин идеология ( weltanschauung ), и этот термин не означает простое «отражение» материальных условий, как логотип , который выступает не только как интерпретация существования ( dasein ), но также как выразительный topos дифференцированной и конфликтной матрицы власти.Идеология — это камера-обскура , которая маскирует властные отношения с помощью организации, организующей срыгивание ложных интерпретаций или изображений. Как пишет Фуко в книге «Дисциплина и наказание », идеология — это не просто подавление сознательной репрезентации, но как дискурс в своей интимности среди распространения власти указывает на проактивное культивирование воспроизводства конфигураций власти. Средство — это сообщение, как нас учил Маклюэн, и наоборот.Миранда 14 утверждает, что религия, как культ , , является фальсификацией , означающего прожитого существования. С радикальной точки зрения интерпретации Ветхого и Нового Заветов Мирандой, культ религии, подавивший подлинное значение священного как стремление к справедливости, служит искоренению бреши , которая является призывом к сопротивлению. против угнетения. Таким образом, религия — это не просто идея, а средство передачи и контроля со своими собственными организациями, сетями и мнемотехническими средствами идеологической обработки, «запоминания».
Тем не менее, среди этого разоблачения религии можно увидеть, услышать и обонять то, что ощущение священного не зависит от последней концепции или образа — все это будет поглощено различными модификациями зрелища, серийная артикуляция профанной галереи. То, что очищает topos для открытия священного измерения, — это временное существование, которое подавляет конечное «я» в моменты ужаса, ужаса и, в меньшей степени, беспокойства. Радикальным феноменологическим жестом мы можем выразить священное не только как личное постижение конечности, но также как возможное пробуждение к Другому — или, как предполагает Отто, к нуминозному , величайшей тайне , или с лицевой стороной , как указал Левинас.Таким образом, понимание негативности конечности может перейти в ситуацию, в которой можно настроиться на свой собственный этос на фоне утверждения возможностей экстатического существования. Для изолированного, отчужденного «я» — здесь вспыхивает событие трансцендирования — нить Ариадны спускается в лабиринт просто «негативной диалектики». Это место назначения без выхода превращается в утверждение священного смысла существования.
Возможно, именно при императоре Константине религия, особенно христианская религия, поскольку она стала правовой и идеологической ортодоксией римского государства, положила начало процессу, в котором древние язычники и, если мы можем согласиться с Мирандой, подлинные библейское понятие священного было стерто из общественного жизненного мира существования (возможно, библейское понятие священного было искоренено еще раньше в интерпретации , например, Исхода).После безвременной кончины Юлиана, так называемого отступника, который попытался отменить подрывные и радикальные указы новой религиозной гегемонии зарождающегося христианского мира, начали разрушаться мириады общественных и частных культов богов, богинь и духов. терпят инквизиторский запрет на фоне тоталитарного проекта, направленного на установление единого и политического смысла священного. С окончательным учреждением Священной Римской империи при Карле Великом и с торжествующей властью Римской церкви актуальность политического культа года подавила немедленное и хрупкое утверждение священного сопротивления угнетению и несправедливости.По мнению Миранды, гегемония греческой (платонической и аристотелевской) философии над христианским богословием продолжала подавлять подлинную концепцию священного в Ветхом и Новом Завете, не говоря уже о языческих мистериях. Священное, как нарушение «порядка вещей», подавлялось из-за стремления к мирской безопасности. Такой исследовательский проект существовал даже после ничтожных инициатив Реформации. Ибо даже в свете утверждения Лютера о том, что Бог будет судить человека по критериям только веры , различные реформаторские культы стремились, в конце концов, установить свои собственные региональные юрисдикции, служа лишь для усиления паранойи людей. инквизиционный дух.Например, несмотря на пустую болтовню против папства и священника, никогда не было никаких подтверждений единственного раскрытия священного со стороны индивидуальной души — эта душа никогда не была освобождена . Если бы кто-то действительно обрел свободу, она могла бы сгореть на костре на публичном празднике, христианской версии человеческого жертвоприношения. И снова пропаганда и риторика Лютера намного превзошли реальную трансформацию, которой он способствовал, поскольку это реформирование не провоцировало и не призывало вопрошающего к исключительному пробуждению и освобождению к близости посреди священного события.Иконоборчество образов и стирание индульгенций (подкуп Бога) и разрушение политико-религиозной бюрократии никогда не исключали посредническую роль духовно избранных, преподобных и протестантской политической власти. Продолжающееся распространение особого толкования Библии, книги biblio , которая в любом случае насквозь носит политический характер — была изменена кое-где по прихоти власти — не говоря уже об исключении сотен книг оригинал — служил для исключения возможности радикальной встречи единственного смертного существа со священным.Если человек должен постигать и впитывать божественное только верой, а не делами, тогда нет необходимости в Библии или церкви. Есть радикальная возможность немедленного открытия среди священного. Для Миранды такое открытие — в подлинном смысле этого слова — стремление к справедливости, причем — это священное, — божественное. В этом смысле нет даже необходимости провозглашать и называть такую близость — это неумолимо прожитая . Таким образом, внешне кажущийся атерелигиозный подход действительно может выдать жизнь, прожитую в непосредственном свете священного .Не позволяйте правой руке знать, что делает левая .
Реформация, таким образом, названа удачно, поскольку указывает на изменение конфигурации того, что уже было там. Никогда не было попыток переписать Библию — Канон — или заново вставить многие документы, которые были исключены Римско-католической церковью, эту Вавилонскую блудницу , такую как Евангелие от Фомы, или отклонить Библию как таковую — или отделить Ветхого Завета от Нового Завета и т. д.Религия осталась такой же, какой она была после монотеистических восстаний, которые Брестед назвал «религиозным империализмом», хотя и в деформированных, фрагментированных «формах» — «организациях», «сетях», — но все еще выраженных этим странным гибридом, « Библия »- книга, указатель. Только доктрина веры , поскольку это была доктрина церкви, никогда не позволяла душе развивать прямые и близкие отношения с божественным или священным. Реформация, проводимая в соответствии с директивами Лютера, Кальвина и других, никогда не допускала возможности появления I и Thou .Говоря языком Маркса, рожденного в еврейской семье, которая обратилась в протестантизм по причинам физического и эмоционального выживания, религия, даже после так называемой реформации, оставалась идеологической и политической проблемой. Макс Вебер преуспел в описании близких отношений между протестантизмом и капитализмом. Реформация не только обеспечивает прикрытие для экспроприации трофеев теократического порядка римского христианского мира , но также устанавливает его modus essendi .
Однако не только христианская религия подлежит характеристике идеологии. Хорошо известно, что Индия и древние города-государства, такие как Спарта и Афины, проецировали свою собственную иерархическую дисциплину как сакральную топографию на повседневную жизнь в артикуляции своего собственного повествования о космической и политической легитимности. Каждый город-государство создал мифы по своему собственному образу, но как город-государство вынудил игру Священного открытия в упрощенной логике коммуникации, управления и контроля — политики.Здесь важно то, что в религии есть политический и организационный компонент, который требует разработки и закрепления идеи — логики идей. Пифагорейцы часто говорили о мнемотехнических приемах, которые облегчили бы сохранение, запоминание и распространение определенного набора идей или верований. Например, есть стихи, рассказы, музыкальные инструменты, такие как элементарный монохорд, который может изучить любой ребенок, или различные другие символические и повествовательные приемы или изображения, которые можно передать и запомнить.Религия подразумевает историческое измерение воспроизводства, которое стоит за пределами любого прямого и интимного пробуждения к священному как таковому по отношению к единственному смертному существу. В самом деле, как мы видим на «заре» современной философии, религии, если ее не отвергать в общих чертах, придается чисто инструментальное или рациональное значение. Если снова обратиться к Фуко, это технический режим дисциплинарной власти. Само слово «религия» подразумевает «связывание», «связь», которая утверждает, что содержит группы верующих таким образом, который выходит за рамки любой ситуации интимной и свободной встречи с божественным.В самом деле, такая «связь» и «связывание» может означать возможность связи с божественным, но, поскольку она сформулирована в форме ритуала, это связь и связывание, которые подразумевают скрытый смысл «религиозного». . »
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию Эхнатона в его попытке устранить жречество Амона для немедленной встречи с Атоном или Солнечным Диском. Бюрократия священства для своего существования требовала повиновения его авторитету и активного распространения и распространения его доктрин, если оно хочет выжить.Еретик Эхнатон построил свой город в пустыне, но не прошло и десяти лет, как он был убит, а его сына переименовали в Тут-анх- амун из Тут-анх- атен . Это не просто смена власти в земном смысле, но также трансформация в артикуляции символических и эстетических измерений topoi феноменов сакрального значения. Таким образом, жрецы Амона стремились стереть любой артефакт Эхнатона.
Этот намек может служить объяснением робости Реформации. Просто религия не обязательно имеет какое-либо отношение к священному. У него есть свои интересы и причины, и как организованная бюрократия должна управлять своими собственными процедурами, своей дисциплиной, своей правдой, чтобы обеспечить свое собственное выживание, свое земное повторение. Священник или преподобный имеют другие интересы и «идеи», чем его паства — или должны иметь. Павел не Иисус (и не Гомер Одиссей). Он думает не только о той или иной мессе или служении, но и о будущем церкви.Он задает разные вопросы: как мне сделать так, чтобы это учение дожило до будущего? Как я буду гарантировать, что дети моей паствы принимают и увековечивают учение этого учения ? Ответ на его вопросы, как для иудео-христиан, так и для гражданско-языческих, неумолимо приходит в форме Библии или обратной «иерархии» (в отличие от иерофании , впервые предложенной Элиаде в Священном и the Profane ), спроецированный на доктрины политеизма — это дошедшие до нас тексты, которые могут перемещаться среди приливов и волн истории.Тем не менее, такие доисторические спасательные плоты, поскольку они представляют собой просто мнемотехнические приспособления для продолжения передачи между поколениями, могут препятствовать, скрывать близость со священным — с божественным. Эта близость — вторжение в гомологичную артикуляцию и действие профанной идеологии радикальной силы ужаса, террора — подавляющего. Эта головокружительная встреча показывает нам, что мы, каждый из нас, радикально уязвимы не только экзистенциально, но и на каждом шагу по пути старения — как одно временное решение вытесняет последнее.На пороге такого открытия уникальное существо восхищается своим роковым и шатким затруднительным положением. Если это существо не пытается убежать, спрятаться среди культа безопасности Последнего Человека, она или он могут попытаться принять эту ситуацию неопределенности как намек на священное значение этого открытия нашего существа. Конечно, большая часть этого мистериума сублимирована и даже искоренена на этой территории утилитарного воспроизводства, если, то есть, мы должны продолжать в этом преобладающем «порядке вещей».Тем не менее, несмотря на очищение и успокоение ужаса, смерть — отвращение — через профанный мир работы и профанной религии, священные события, моменты видения, события правды ломаются, напоминая нам о хаосе, который творится в нас самих. Конечно, мы не хотим просто раствориться в животном из-за приостановки между сознанием и священным. Тем не менее, мы не хотим быть поглощенными пантеистическим разумом, который превращает нас в марионеток и попугаев. Мы хотим, чтобы каждый из нас имел автономию в нашей личной и духовной жизни, требование, которое разрывает цепь однородности и позволяет нарушить эту неоднородность единственного, смертного существа как события.Тем не менее, если такая близость всегда была или всегда возможна для каждой души, что осталось бы для священника, преподобного, посредника, политика, избранного самим собой?
В настоящем исследовании Маркса мы уже вынуждены удалиться от опосредованной идеологической реальности религиозных и политических утверждений. Маркс уже отверг — в соответствии со своим пониманием сущности этой историчности человеческого существования, религию как идеологию, как простую «логику» «идей» — eidos , простые картинки, идолы.Такой отказ подразумевает критику не только нарративного идеализма и механизмов увековечения ткани, но также признание политико-идеологической дисциплины организационной матрицы культурного увековечения. Эта дисциплина утверждает себя как религиозно-культурная матрица. Это «сознание» в свободно плавающем видении идеалистов, но в глазах Маркса это «сознание» определяется бытием, существованием и, таким образом, становится, как и любая феноменология жизни, симптоматическим и показательным, но не поэтому бессилен.То, что подразумевается в такой деконструкции «сознания», становится сакральным значением praxis . Мы не должны жить в camera obscura «картины мира», но должны действовать и быть, и в этом nunc , думать, цепляться за и искать глубоко внутри того, что мельком видно в этом событии. священного входа. Маркс не протестант в том, что он приветствует действия, но он не католик и не еврей, поскольку он ставит под сомнение «Закон». Он выступает за революцию, нарушение «Закона» во всех его конкретных проявлениях.Его указание на praxis (особенно в свете разграничения Аристотелем praxis и poiesis ) разрушает, как мы увидим во встрече Маркса с Бультманном, картину мира репрезентации через события трансгрессии — экзистенциальные разрывы, которые дают понимание среди «деонтологического» события «взгляд ока» ( augenblick ), сатурналии, потлач — это языческое событие жертвоприношения и дара, как говорит нам Мосс.
Тем не менее, непрекращающиеся действия, чрезмерные проступки растворяют смертное «я» в профанном хаосе существования.Одно лишь действие, освободившееся от необходимости интерпретации, мысли, теряется в повседневности напряженного бегства от существования. Мы гонимся за нашими товарами, нашими фетишами и, думая, что это высшее существо «реального», мы подавляем любую герменевтическую связь с существованием. Простое действие, утверждение (но не, как мы отметили, praxis в смысле Маркса), поскольку оно ориентировано только на повседневность, остается за пределами подлинного poiesis существования.В заклинаниях Хайдеггера одиннадцатый тезис Маркса «» изображен в кажущейся поспешности. Хотя Маркс мог выразиться под влиянием более глубокого утверждения, в конце концов он держит фрагменты в своих руках. Однако, видя, ощущая эти карты реальности, он не отвергает действие, а вместо этого подвергает критике фрагменты. Для Хайдеггера Маркс ищет действие в замещении своего конечного существования, в неогегелевском эскапизме. Тем не менее, буквальное прочтение Хайдеггером одиннадцатого тезиса неприемлемо, поскольку Маркс не просто принимает поверхностную версию «безголовости» или волюнтаризма, но может, в терминах Хайдеггера, принимать решение об обязательных обязательствах в брошенной проекции своего собственного мира. .
Следует иметь в виду, что сам Маркс занимался поэзией священного в своей ранней поэзии и генеалогией своего сочинения. Поэтическое выражение не аннигилировано в его более поздних произведениях, но только появляется в свете феноменологии Капитала, раскрытия циклов профанного воспроизводства. На протяжении всей книги « Капитал » Маркс ссылается на литературу, поэзию или добавляет заявление о грядущей революции , которая разрешит противоречия, угнетение и страдания классового «общества».Его видение всегда сводится к радикально преобразованной ситуации посредством praxis , в которой непосредственные производители — рабочие — владеют средствами производства и самостоятельно управляют матрицей poiesis — сущностью жизни — в точке производства. Это поэтическое и философское утверждение освобождения, священного, рожденного в этой деконструкции капиталистического этоса и дисциплинарной матрицы. Возможно, такая революция, как задумал Маркс, позволит преобразовать простое производство капиталистического утилитарного воспроизводства в священное poiesis дара.
Поскольку он никогда не отказывался от своих стихов, мы не можем, как обычно, просто утверждать, что это выражение было высказано незрелым учеником; мы также не можем интерпретировать Маркса как человека, который обозначает все лингвистические выражения, указания как идеологию. В то время как некоторые языковые игры существуют сами по себе как идеалистические целостности, поэзия Маркса указывает на пробуждение к инаковости — и в этом пробуждении он постигает среди своих topos чувство долга и приверженности, утверждения. Каждое из его сочинений можно рассматривать как феноменологию указания, которая стремится раскрыть истину мира, истину как a-lethea , которая должна быть раскрыта через борьбу за подлинное самовыражение.
В то время как конкретные контуры раннего поэтического утверждения Марксом священного могут трансфигурироваться в процессе писательской жизни, поэзия утверждения остается в его последовательном отстаивании революционных преобразований. Маркс не священник, не ученый и не политик — он занимается поэзией бытия. Он, как писал Артур Миллер, «белый негр», упорный пророк. Если мы, в нашей интерпретации Маркса, хотим дать «картине» ощущение всего человека, мы должны засвидетельствовать его действия как симптомы или индикаторы, как пишет Кант в своей книге Religion , предрасположенности, даже если она такова. понятие характера у Хайдеггера, Батая и Маркса в конечном счете временное и тайное.
Священное по Марксу
Ясно — что кажется все более неизбежным, — что мы можем раскрыть некоторый тип отношений между Марксом и священным, и тот, который выходит за рамки чисто отрицательных отношений. Маркс не великий атеист и не великий авторитарный деятель. Такие интерпретации являются результатом либо преднамеренного искажения фактов, либо редукционистского, партиционистского прочтения, которое не раскрывает наиболее правдоподобных (и глубоких) прочтений Маркса.Ленин никогда не читал «Экономические и философские рукописи » или «Немецкую идеологию » — действительно сомнительно, читал ли он когда-нибудь стихи Маркса. Как бы то ни было, такой пример может послужить предупреждением для тех, кто успокоился в своих теоретических стереотипах. Маркс — это нечто большее, чем просто политическое или даже историческое значение, которое ему приписывали. Даже на двадцати ста страницах книги «Капитал » (исключая текст «Теории прибавочной стоимости », отвергнутый Лениным, поскольку его редактор, Карл Каутский, не поддерживает политику революционного пораженчества и повстанческого коммунизма), Маркс приводит многочисленные пропаганда (этические) и поэтические высказывания.Часто он красноречиво говорит о коммунистическом обществе как о контрасте капиталистической эксплуатации. Его наиболее явная ссылка на «мораль» как на то, что необходимо подтвердить, — это его ссылка в Capital , vol. 1 морального качества уровня жизни (аналогично «стандартному товару» Сраффы). Существует моральный, практический критерий уровня жизни, основанный на преобладающих исторических «переговорах» о классовой борьбе (и войнах). Эта конкретная феноменология временной морали материального существования созвучна его собственному ощущению подавляющего характера священного и внутреннего сияния 15 , которое осталось после краха его собственных иллюзий.Можно было бы предположить, столь же правомерно, как и любая из интерпретаций Маркса, что он сохранял свое внутреннее сияние и чувство священного и поэтического даже среди своих «серьезных» исследований научной политической экономии — и более серьезных смертей его товарищей по политической экономии. Парижская Коммуна. Неявное утверждение, демонстрируемое его собственными заявлениями и его политической защитой и участием (даже в той степени, в которой его разыскивали для ареста и неоднократно высылали), указывает на то, что чисто светская или атеистическая интерпретация Маркса необоснованна.
Выше я попытался показать, что типичная марксистская шутка о том, что религия — это опиум для людей , была прочитана вне контекста и не позволяет должным образом понять более тонкое различие у Маркса между простой религией и священное — и, таким образом, его близость к тенденциям священного восстания, как показано в Liberation Theology и Ghandian восстаниях в Южной Африке и Индии. Более того, очевидно, что мнимая критика религии Марксом во многом созвучна радикальному богословию двадцатого века (и апофатическому богословию двадцать первого века), наиболее четко сформулированным в таких фигурах, как Бультманн и Иоганнес Хофф.Также ясно, что его критика не выдерживает критики в свете того, что сам Маркс не смог сформулировать — как в случае с последними теологами — радикальную феноменологию сакрального, 16 чего-то, что остается неявным только у Маркса. Тем не менее, несмотря на отсутствие явного и явного заявления о близости со священным, я попытался показать, что обычная интерпретация вопроса (или его отрицания) не может прийти к согласию с сильными контр-интерпретациями, которые ясно демонстрируют, что Маркс не остается только встроенным в интерпретирующий и практический topos жизненного мира, но это чувство священного обусловлено его этическими и моральными защитниками на протяжении всей жизни.В свете поэзии, писательства и активности Маркса, смысл священного полностью раскрывается как преданная и преданная мысль, письмо, социальная, культурная и политическая praxis («демонстрация»). Таким образом, если мы будем искать явного topos утверждения у Маркса (хотя в этом нет необходимости) — искать интимную установку утверждения под образом «гуманизма» Маркса или его предполагаемого «сциентизма», мы снова отбрасываются к его поэзии (и пьесам), такой как «Преобразование», особенно в ее изощренной критике чисто идеалистического смысла священного и в его образной реконструкции и утверждении священного, которое подавляет конечное «я», но также позволяет этому «я» направлять духов, которые вливаются в «я» — как Колдун, который пишет эту поэзию существования.В конце концов, он поэт, но тот, кто будет хранить молчание перед лицом Безымянного — подавляющего.
Витгенштейн заканчивает свой «мистический» Tractatus словами: «То, о чем мы не можем, говорить, мы должны обойти молчанием ». 17 И все же, хотя мистическое лежит на границе «мира» — Die Welt ist als der Fall — «мистическое» все же — это . Мистическое или в контексте настоящего исследования священное — это не «случай», это не вещь, объект или положение дел в этом мире, к которым можно привязать удобный ярлык.Он находится «снаружи» — на границе мира, но он может прорваться и прорывается — как в случае с Батайем — «внутри» среди существования, из которого «мир» является только одним аспектом. Все это Маркс уже сказал в своих ранних стихах. Маркс не может ни избежать священного, ни просто отрицательное понимание священного не может быть определено для него . Его поэтические исследования действительно являются экзистенциальным корнем его последних произведений и мыслей. Нет прерывности.
Мои глаза так смущены
Моя щека такая бледная
Моя голова так смущена
Царство сказок.
Я хотел, смело осмелившись
По морю идти
Там, где вздымаются тысячи скал
И наводнения текут мрачно и пусто.
Я цеплялся за Мысль, высоко парящую
На двух ее крыльях действительно ездил,
И хотя штормовые ветры ревели,
Я бросил вызов любой опасности.
Я там не дрогнул,
Но когда-либо делал в прессе,
С взором дикого орла
Путешествие безгранично.
И хотя Сирена крутится
Ее музыка такая трогательная
Чем она завоевывает сердце —
Я не слышал этот звук.
Я отвернулся от своего уха
Из сладких звуков, которые я слышал,
Моя грудь стремилась
К более высокой награде.
Увы, волны неслись,
В покое их не было бы;
Их пронесло много,
Слишком быстро, чтобы я увидел.
С магической силой и словом,
Я наложил те заклинания, которые знал,
Но волны все еще ревели,
Пока они не исчезли из поля зрения.
И потопом болячка давила,
И головокружение при виде,
Свалился с хозяина
В туманную ночь.
И когда я снова воскрес
Наконец-то от бесплодного труда,
Все мои силы исчезли,
И все сердечное сияние потеряно.
И, дрожа, бледный, долго я
Вглядывался в свою грудь;
Но не воодушевляющей песни
Моя скорбь была благословлена.
Мои песни разлетелись, увы;
Пропало самое сладкое искусство —
Ни один Бог не вернет его
Ни Милость Бессмертного.
Крепость затонула
То, что когда-то было таким смелым, устояло;
Пламенное сияние утонуло,
Пустота была землей недр.
Тогда сияй своим сиянием,
Чистейший свет души,
Где в меняющемся танце,
Вокруг Земли катятся Небеса.
Тогда я был пленником,
Тогда мое зрение было ясным,
Ибо я действительно нашел,
Каковы были мои темные стремления.
Душа звенела сильнее, свободнее,
Из глубоко взбалтываемой груди
Торжественно небесное
И в полном счастье.
Мой дух тогда и там
Взлетел, ликующий и веселый,
И, как колдун,
Я покорил их курс.
Я оставил волны, которые несутся,
Наводнения, которые меняются и текут.
На высокой скале, чтобы разбиться,
Но сохранилось внутреннее сияние.
И то, что моя Душа, управляемая судьбой
Никогда в полете не брала,
Это было дано моему сердцу
Даровано было твоим взглядом.
Заметки автора
© Автор, 2009. Опубликовано Oxford University Press от имени Института церковно-государственных исследований Дж. М. Доусона.Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]
.
Все еще опиум? Современные марксисты против Карла Маркса в вопросе религии
Если Карл Маркс отказался от религии, почему некоторые современные марксисты считают ее совместимой с социализмом? Джозеф Кронин предполагает, что и Маркс, и современные марксисты относятся к религии с прагматизмом. Маркс рассматривал религию как понятный, но бесполезный ответ на социальное неравенство.Современные марксисты, однако, отмечают, что маргинализированные группы, как правило, более религиозны. По мере изменения общества изменился и марксистский ответ.
Flickr, ptwo, Creative Commons
. В последние годы стало обычным явлением слышать, как марксисты утверждают, что широко распространенное предположение о том, что марксизм противоположен религии, неверно. Это предположение основано, как они утверждают, на деконтекстуализированной и, следовательно, вводящей в заблуждение интерпретации знаменитого отрывка из введения к A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right (1844), в котором Маркс заявляет, что религия является «опиумом мира». люди’.Прочтите против предыдущего предложения: «Религия — это вздох угнетенного существа, ощущение бессердечного мира и душа бездушных состояний» — цитата приобретает совсем другой смысл. «Ощущение бессердечного мира» предполагает, что религия дает убежище от капиталистического гнета. Следовательно, марксизм можно рассматривать как совместимый с религией.
Значит, мы все время неправильно понимали Маркса? Его сочинения о религии не просты или прямолинейны, но современная интерпретация Маркса как сочувствующего религии, как я полагаю, определяется в большей степени современными политическими обстоятельствами, чем внимательным чтением того, что он на самом деле написал.Короче говоря, рассматривать «опиум народа» как общую сумму отношения Маркса к религии — это близоруко, но добавление предыдущего предложения добавляет только один дополнительный слой контекста. Чтобы выйти за рамки этого, нужно спросить, почему Маркс сказал, что религия — это «ощущение бессердечного мира».
Критика философии права Гегеля , или, по крайней мере, первые несколько абзацев, которые относятся к вопросу о религии, трудно читать, но это не двусмысленно (на самом деле вы можете прочитать это здесь и решить для себя).Маркс утверждает, что религия является продуктом людей или, скорее, продуктом обществ, созданных людьми. Религия отражает неравенство общества, в котором она существует, поэтому бедные становятся добродетельными, богатым будет трудно попасть на небеса и т.д. общество смотреть, если бы только у них была власть. (Конечно, те, кто продвигал религию в девятнадцатом веке, часто были теми, кто хотел сохранить это перевернутое видение как фантазию, чтобы предотвратить представление о том, что оно может стать реальностью в году, в этом мире года.)
Для Маркса конечной целью борьбы с религией является не сама религия, а, скорее, тип общества, который причиняет страдания, которые в первую очередь создают потребность в религии. Таким образом, религия — это понятный, но ошибочный ответ на страдания, причиняемые эксплуатацией в феодальных и капиталистических обществах. Если использовать метафору напрямую: если вы находитесь под влиянием опиума, вы оторваны от реальности. И вы принимаете опиум именно по этой причине — потому что не хотите смотреть в глаза реальности.Потому что вы страдаете или потому что с вашими обстоятельствами стало невозможно справиться каким-либо другим способом. Религия, как своего рода духовный опиум, мешает людям осознать, что их страдания — это не «естественное» положение вещей, которое будет исправлено после смерти, а материальная ситуация, которую можно изменить в этой жизни. Однако, чтобы достичь этого осознания, людям сначала нужно отбросить религию, потому что сама ее цель — заставить их принять свое подчинение, не давая им понять свою истинную ситуацию.
Предостережение состоит в том, что Маркс явно пишет здесь о христианстве — он также критиковал иудаизм в г. По еврейскому вопросу (1844 г.), но с другой точки зрения — и в других мировых религиях он особо не учитывает. Работа. Это может иметь большое значение, особенно с учетом того, как европейские общества изменились со времен Маркса с точки зрения религиозного состава. Но это не та тема, которую многие современные марксисты, кажется, уцепляют, помимо утверждения, что религии меньшинств могут использоваться в качестве агентов революционной борьбы.Это вполне может быть так, но означает ли это, что эти религии не иллюзии, или, скорее, они все еще иллюзии, хотя и с другим отношением к обществу, в котором они существуют?
Я не собираюсь «доказывать», что Маркс был антирелигиозным и что марксизм сегодня должен занять эту позицию. Во-первых, потому что отношение Маркса к религии не должно восприниматься как священное писание сегодняшними марксистами. Сам Маркс этого не предполагал. Он считал, что социализм должен адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и находить новые идеи и ответы, чтобы оставаться актуальным.Это приводит ко второму пункту. Есть понятные причины, по которым сегодня марксистские активисты могут пожелать заявить, что марксизм не против религии. Наиболее экономически маргинализированные группы, конечно, в Великобритании, но также и во всем мире, как правило, имеют более высокий уровень религиозных обрядов. Тогда зачем вам отталкивать потенциально огромную и восприимчивую аудиторию, говоря им, что их вера — это «опиум»?
Нет проблем с тем, чтобы сказать людям, что сегодняшний марксизм не противостоит религии.Проблема возникает, когда вы говорите кому-то, что марксизм никогда не был противником религии или что Маркс был сторонником религии. Это интерпретация марксизма, оторванная от его истории. И в любом случае в этом нет необходимости, поскольку нет причин, по которым сочинения Маркса и современная марксистская мысль должны находиться в полном согласии.
В качестве последней мысли — и рискуя подорвать точку зрения о том, что марксизм можно отделить от его основателя, — трудно сопротивляться представлению, что бы подумал сам Маркс, если бы ему сказали, что спустя почти 140 лет после его смерти политическая идеология, которую он Вдохновленные, да и его собственные сочинения были переосмыслены, чтобы освободить место для религиозных верований.Можно представить, что он почувствует, что все пошло не совсем по плану.
Примечание. В этом материале отражена точка зрения автора, а не позиция блога LSE Religion and Global Society или Лондонской школы экономики.
.


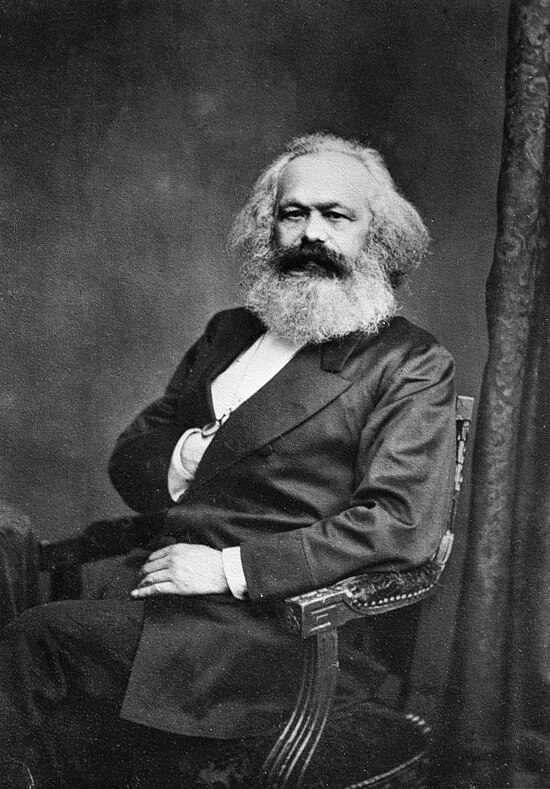 Основные составляющие этой машины — частная собственность, свободный рынок, включающий рынок труда, и машинное производство — связаны только с физическим существованием человека; если воспользоваться идеологическим штампом «материализм», то нельзя представить себе более «материалистической» идеологии, чем идеология капитализма. Иногда можно, правда, услышать, что собственность «священна», но функции бога Термина, охранявшего её границы, давно уже выполняет полиция; а специфические черты собственности, присущие капитализму, уже и вовсе не поддаются освящению. Точно так же, не имеют духовного смысла рынок и машины. Современный капитализм предполагает у людей только материальные потребности и не умеет удовлетворить никаких других: в этом смысле его идеология есть не что иное как вульгарный марксизм. Если прибавить к этому чисто охранительную тенденцию современного капитализма — его абсолютный консерватизм — то он не только не имеет духовного содержания, но и не может им обзавестись.
Основные составляющие этой машины — частная собственность, свободный рынок, включающий рынок труда, и машинное производство — связаны только с физическим существованием человека; если воспользоваться идеологическим штампом «материализм», то нельзя представить себе более «материалистической» идеологии, чем идеология капитализма. Иногда можно, правда, услышать, что собственность «священна», но функции бога Термина, охранявшего её границы, давно уже выполняет полиция; а специфические черты собственности, присущие капитализму, уже и вовсе не поддаются освящению. Точно так же, не имеют духовного смысла рынок и машины. Современный капитализм предполагает у людей только материальные потребности и не умеет удовлетворить никаких других: в этом смысле его идеология есть не что иное как вульгарный марксизм. Если прибавить к этому чисто охранительную тенденцию современного капитализма — его абсолютный консерватизм — то он не только не имеет духовного содержания, но и не может им обзавестись.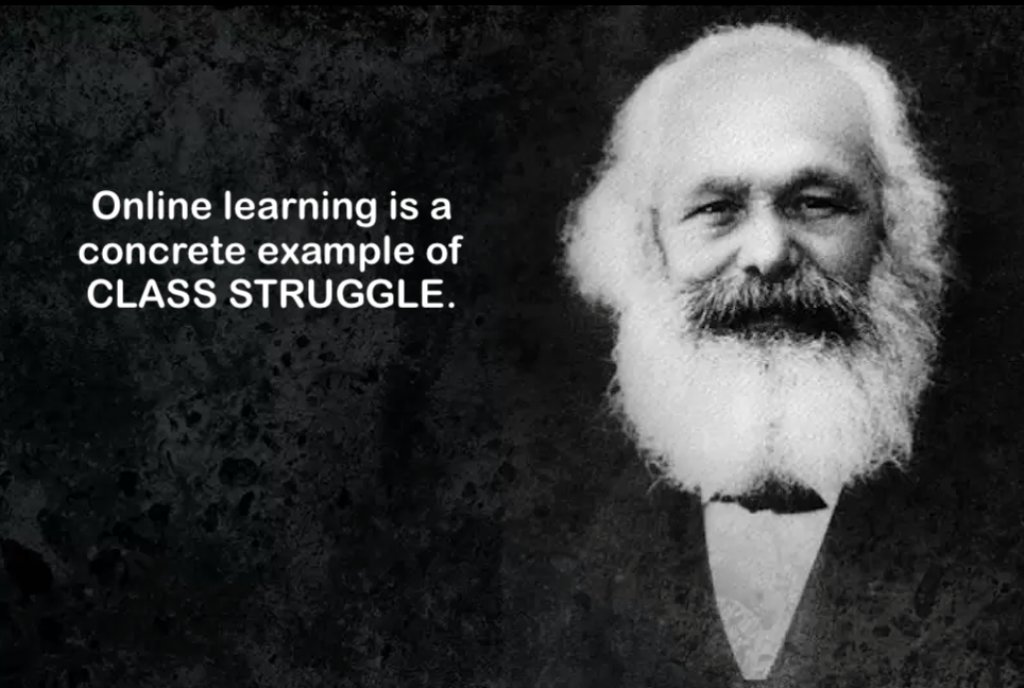 Ранняя буржуазная идеология имела идеал свободы и равенства (к которым французы присоединили неудобное «братство»), но это было давно, и нынешние апологеты капитализма полагают, что все нужные идеалы уже имеются в наличии, а другие не нужны.
Ранняя буржуазная идеология имела идеал свободы и равенства (к которым французы присоединили неудобное «братство»), но это было давно, и нынешние апологеты капитализма полагают, что все нужные идеалы уже имеются в наличии, а другие не нужны.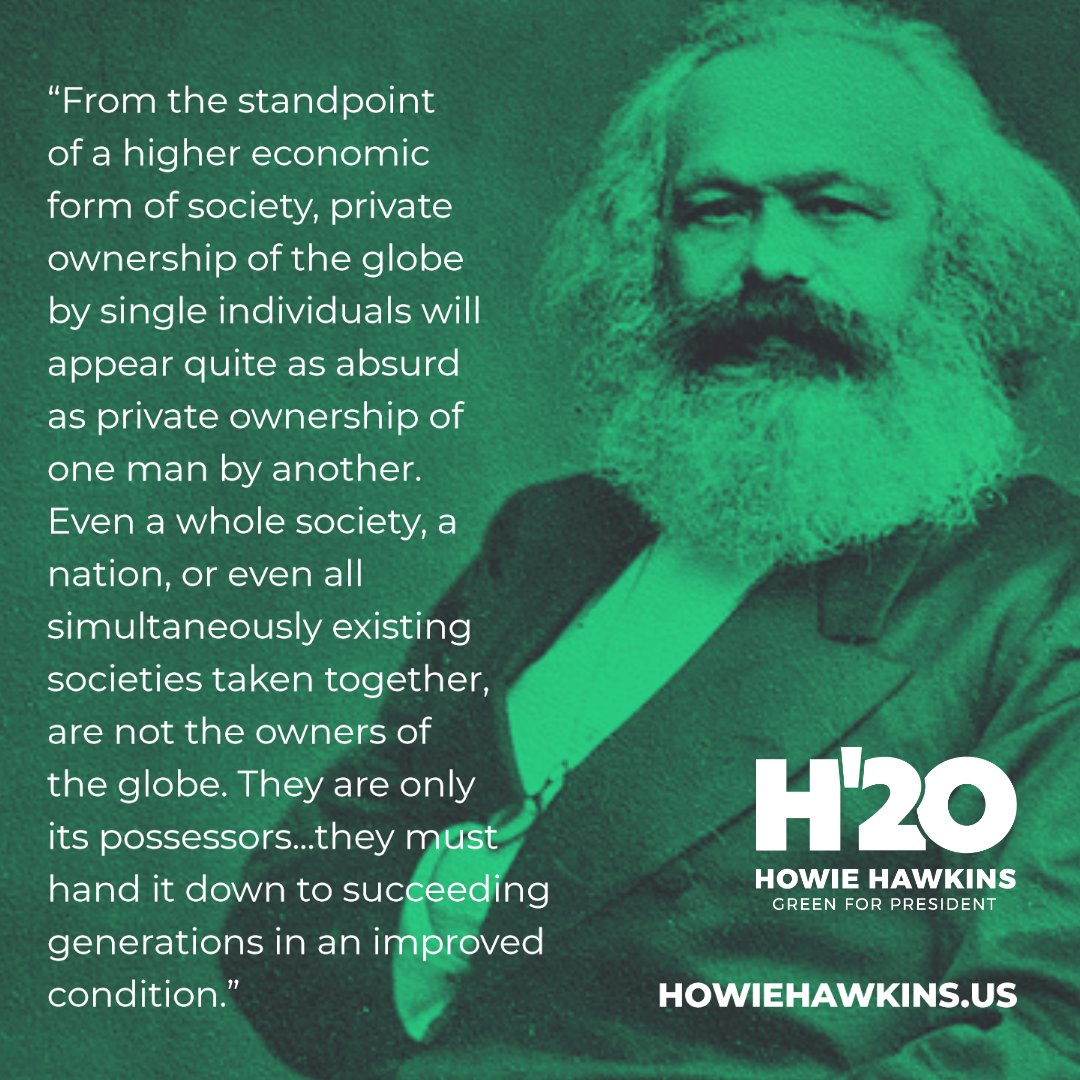
 Над ними смеются, но в них видят глубокие мысли; Беранже, самый народный из французских поэтов, нуждается в вере и готов уверовать. Вот его стихотворение, выражающее настроение эпохи:
Над ними смеются, но в них видят глубокие мысли; Беранже, самый народный из французских поэтов, нуждается в вере и готов уверовать. Вот его стихотворение, выражающее настроение эпохи:
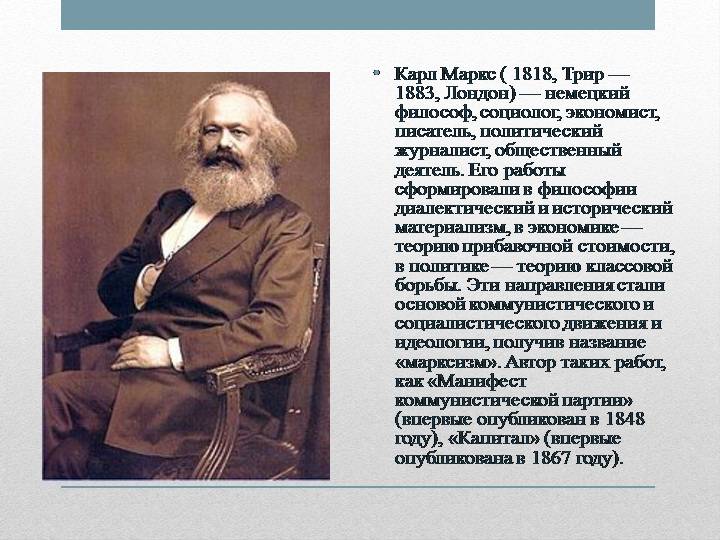


 Он тоже ссылается на Ньютона и тоже считает себя Ньютоном общественных наук, не имея никакого понятия о научном методе. Стремление опереться на «науку» очень характерно для эпохи, когда наука превратилась в главный авторитет — даже для невежд.
Он тоже ссылается на Ньютона и тоже считает себя Ньютоном общественных наук, не имея никакого понятия о научном методе. Стремление опереться на «науку» очень характерно для эпохи, когда наука превратилась в главный авторитет — даже для невежд. Но это не мешает ей преуспевать даже среди образованной публики, воспринимающей этих апостолов как «безумцев». По-видимому, представление о спасении через безумцев восполняет некоторым образом эсхатологическое бесплодие современной культуры. Впрочем, это представление прямо идёт от христианства: безумцами были не только наши юродивые, но и западные, такие, как святой Франциск.
Но это не мешает ей преуспевать даже среди образованной публики, воспринимающей этих апостолов как «безумцев». По-видимому, представление о спасении через безумцев восполняет некоторым образом эсхатологическое бесплодие современной культуры. Впрочем, это представление прямо идёт от христианства: безумцами были не только наши юродивые, но и западные, такие, как святой Франциск. Но Сен-Симон, напротив, хотел организовать все государство по своей системе и подчинить этому государству всю жизнь страны. Эту идею развил его ученик Огюст Конт, а затем его последователь Луи Блан, изобретатель термина «Организация труда». Вместе с тем, Луи Блан подчёркивал поляризацию общества на классы — имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых. Все ещё настаивая на мирном преобразовании общества — по решению свободно избранного парламента — Луи Блан рассчитывал при этом на решающую роль государства. Таким образом, социализм должен был стать государственной религией, то есть теократией. Эти идеи восприняли немецкие радикалы — Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они создали нечто вроде социалистического богословия, под названием «научный социализм», и пытались организовать всех социалистов в единую церковь, под названием «Интернационал».
Но Сен-Симон, напротив, хотел организовать все государство по своей системе и подчинить этому государству всю жизнь страны. Эту идею развил его ученик Огюст Конт, а затем его последователь Луи Блан, изобретатель термина «Организация труда». Вместе с тем, Луи Блан подчёркивал поляризацию общества на классы — имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых. Все ещё настаивая на мирном преобразовании общества — по решению свободно избранного парламента — Луи Блан рассчитывал при этом на решающую роль государства. Таким образом, социализм должен был стать государственной религией, то есть теократией. Эти идеи восприняли немецкие радикалы — Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они создали нечто вроде социалистического богословия, под названием «научный социализм», и пытались организовать всех социалистов в единую церковь, под названием «Интернационал».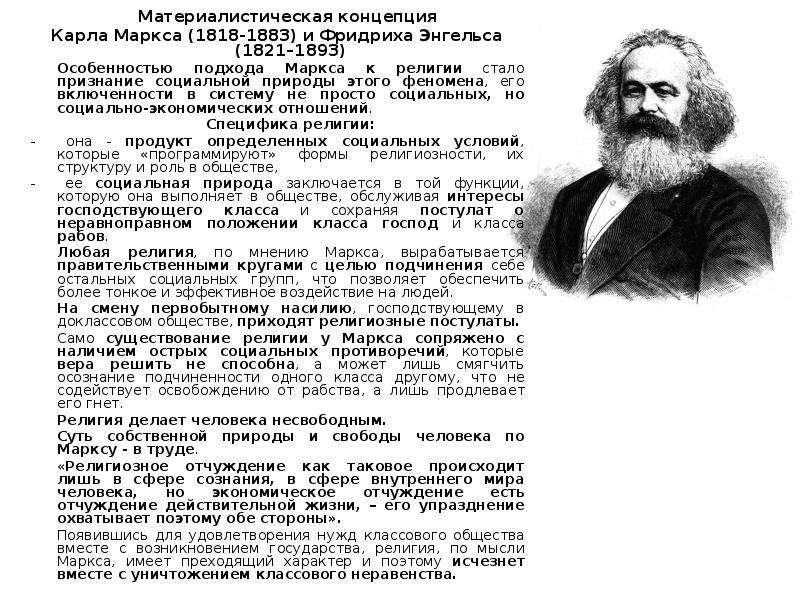 Всю остальную жизнь он провёл в качестве конторщика в разных предприятиях, сочиняя в свободное время свои книги.
Всю остальную жизнь он провёл в качестве конторщика в разных предприятиях, сочиняя в свободное время свои книги. Люди станут выше ростом, а женщины станут настолько здоровее, что будут рожать каждые три месяца. Львы станут анти-львами и перестанут быть хищниками, клопы станут анти-клопами, и так далее. В океанах вода станет сладкой, как лимонад, и киты станут буксировать корабли. Все эти вещи Фурье не соглашался исключать из своих сочинений, поддерживая их арифметическими вычислениями. Беранже имел право называть его безумцем; но прочтите Нагорную проповедь и подумайте, что все это понималось буквально. Фурье был популярен не только во Франции. В России его изучали петрашевцы, а Щедрин остался фурьеристом до конца своих дней.
Люди станут выше ростом, а женщины станут настолько здоровее, что будут рожать каждые три месяца. Львы станут анти-львами и перестанут быть хищниками, клопы станут анти-клопами, и так далее. В океанах вода станет сладкой, как лимонад, и киты станут буксировать корабли. Все эти вещи Фурье не соглашался исключать из своих сочинений, поддерживая их арифметическими вычислениями. Беранже имел право называть его безумцем; но прочтите Нагорную проповедь и подумайте, что все это понималось буквально. Фурье был популярен не только во Франции. В России его изучали петрашевцы, а Щедрин остался фурьеристом до конца своих дней.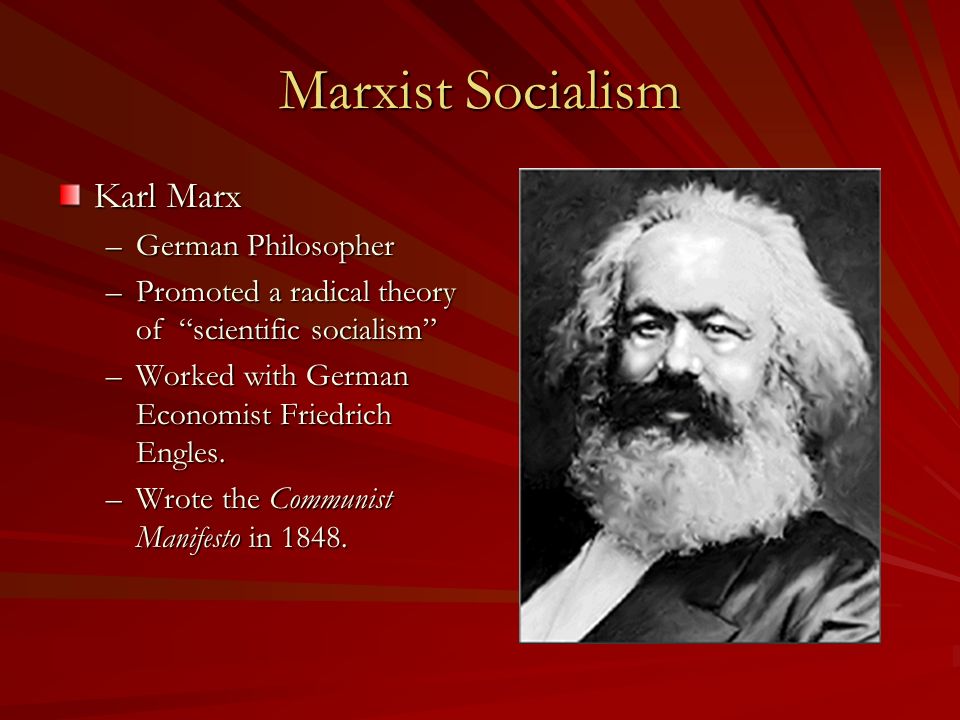 Попытка Фурье перечислить эти страсти не более смешна, чем перечень категорий мышления у Канта, или классификация наук у Конта: над философами, строящими свои системы, не смеются, потому что они «серьёзны» и пишут учёным языком. Конечно, у человека есть «страсти». Как сказал ученик Фурье, Виктор Консидеран, «до сих пор всегда старались с ними бороться, но дело в том, чтобы их изучать и использовать».
Попытка Фурье перечислить эти страсти не более смешна, чем перечень категорий мышления у Канта, или классификация наук у Конта: над философами, строящими свои системы, не смеются, потому что они «серьёзны» и пишут учёным языком. Конечно, у человека есть «страсти». Как сказал ученик Фурье, Виктор Консидеран, «до сих пор всегда старались с ними бороться, но дело в том, чтобы их изучать и использовать». Далее, Фурье рекомендует коллективные формы труда, под именем «ассоциаций». Можно сказать, что он предлагает кооперативный труд, но вовсе не «колхозный», так как его ассоциации добровольны.
Далее, Фурье рекомендует коллективные формы труда, под именем «ассоциаций». Можно сказать, что он предлагает кооперативный труд, но вовсе не «колхозный», так как его ассоциации добровольны.
 В молодости он участвовал, вместе с Лафайетом и другими французскими офицерами, в войне американцев за независимость, заслужив высокие отличия. Во время революции Сен-Симон увлёкся республиканскими идеями и отказался от всех своих званий и орденов: граф Сен-Симон превратился в «гражданина Бонома» [«Добрый человек», в переносном смысле «простак».]. Но вскоре, по невыясненным причинам, он разочаровался в революции, и вместо политической деятельности занялся спекуляциями. Нажив большое состояние, он так же быстро его потерял, и затем вёл жизнь бедного философа, за счёт помогавших ему родственников и друзей.
В молодости он участвовал, вместе с Лафайетом и другими французскими офицерами, в войне американцев за независимость, заслужив высокие отличия. Во время революции Сен-Симон увлёкся республиканскими идеями и отказался от всех своих званий и орденов: граф Сен-Симон превратился в «гражданина Бонома» [«Добрый человек», в переносном смысле «простак».]. Но вскоре, по невыясненным причинам, он разочаровался в революции, и вместо политической деятельности занялся спекуляциями. Нажив большое состояние, он так же быстро его потерял, и затем вёл жизнь бедного философа, за счёт помогавших ему родственников и друзей.
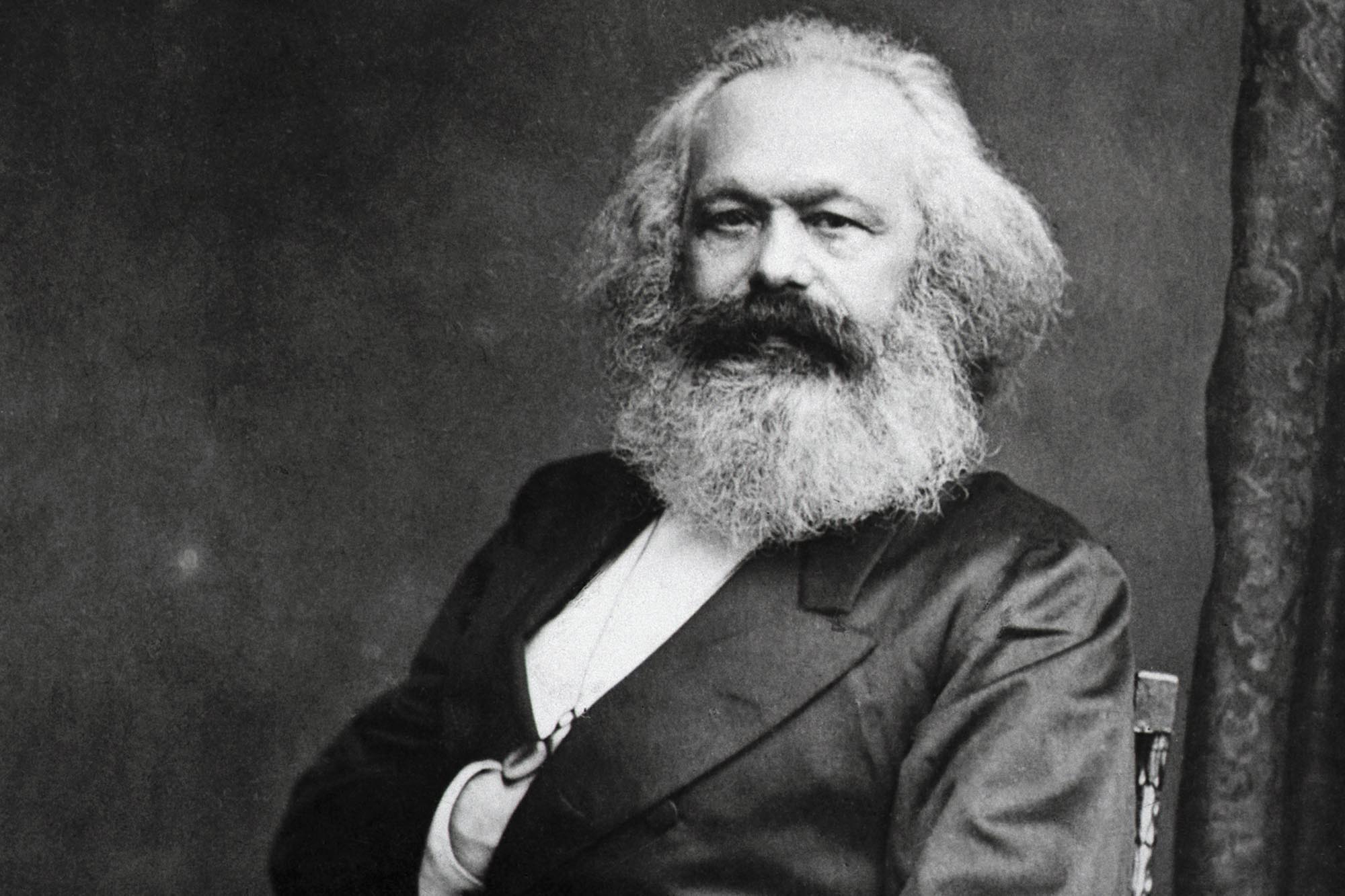 Он ценит только тех, кто прямо участвует в производстве, которых называет «промышленниками» (les industriels), и учёных. К «промышленникам» он относит вместе и предпринимателей (фабрикантов, банкиров), и рабочих, не разделяя их на противостоящие группы. С его точки зрения, впрочем, фабриканты и банкиры — тоже трудящиеся, и даже самые важные из них. Будущее правительство должно состоять из этих «ведущих» промышленников и учёных. Учёные будут давать советы, а промышленники будут управлять. Замечательно, что война за американскую республику не сделала Сен-Симона демократом!
Он ценит только тех, кто прямо участвует в производстве, которых называет «промышленниками» (les industriels), и учёных. К «промышленникам» он относит вместе и предпринимателей (фабрикантов, банкиров), и рабочих, не разделяя их на противостоящие группы. С его точки зрения, впрочем, фабриканты и банкиры — тоже трудящиеся, и даже самые важные из них. Будущее правительство должно состоять из этих «ведущих» промышленников и учёных. Учёные будут давать советы, а промышленники будут управлять. Замечательно, что война за американскую республику не сделала Сен-Симона демократом!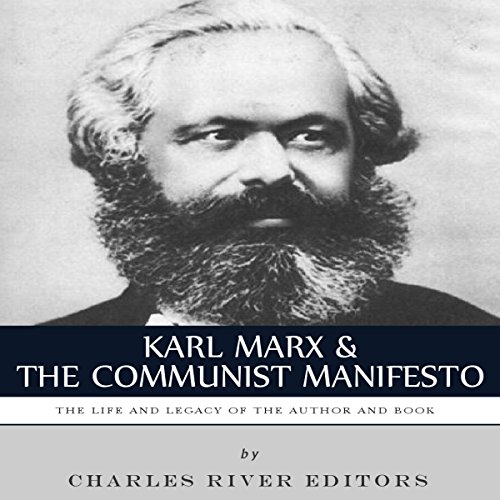 Три года его секретарём был Огюстен Тьерри, впоследствии выдающийся историк. Затем, в течение шести лет, с ним сотрудничал Огюст Конт, основатель «позитивизма», кажется, заимствовавший у Сен-Симона этот термин. Несомненно, мышление Сен-Симона, ориентированное на «прогресс», повлияло на развитие молодого Конта. В конце жизни Сен-Симона опекает известный математик Олинд Родриг, ставший его преданным последователем. Но во главе его «школы» становятся «верующие» ученики, Базар и Анфантен. В 1829 году они выпустили книгу «Учение Сен-Симона. Изложение», а в 1830 году официальный орган сен-симонистов «Глоб» высказал девиз: «Каждому по его способностям, каждой способности по её делам». Конечно, для самого Сен-Симона это означало бы просто справедливое вознаграждение всех «промышленников», и фабрикантов, и рабочих; но в будущем эти слова стали лозунгом социализма.
Три года его секретарём был Огюстен Тьерри, впоследствии выдающийся историк. Затем, в течение шести лет, с ним сотрудничал Огюст Конт, основатель «позитивизма», кажется, заимствовавший у Сен-Симона этот термин. Несомненно, мышление Сен-Симона, ориентированное на «прогресс», повлияло на развитие молодого Конта. В конце жизни Сен-Симона опекает известный математик Олинд Родриг, ставший его преданным последователем. Но во главе его «школы» становятся «верующие» ученики, Базар и Анфантен. В 1829 году они выпустили книгу «Учение Сен-Симона. Изложение», а в 1830 году официальный орган сен-симонистов «Глоб» высказал девиз: «Каждому по его способностям, каждой способности по её делам». Конечно, для самого Сен-Симона это означало бы просто справедливое вознаграждение всех «промышленников», и фабрикантов, и рабочих; но в будущем эти слова стали лозунгом социализма. Он был сын ремесленника, с десяти лет жил собственным трудом; всем своим образованием он был обязан самостоятельному чтению. Ещё не достигнув тридцати лет, он стал выдающимся знатоком текстильного дела и совладельцем фабрики в Нью-Ленарке, в Шотландии, которой он управлял в течение 18 лет. Он превратил эту фабрику в процветающее предприятие, дававшее высокий доход, и воспользовался этим, чтобы поднять заработки своих рабочих, улучшить их жилищные условия и повысить их культурный уровень, особенно заботясь о школьном обучении их детей.
Он был сын ремесленника, с десяти лет жил собственным трудом; всем своим образованием он был обязан самостоятельному чтению. Ещё не достигнув тридцати лет, он стал выдающимся знатоком текстильного дела и совладельцем фабрики в Нью-Ленарке, в Шотландии, которой он управлял в течение 18 лет. Он превратил эту фабрику в процветающее предприятие, дававшее высокий доход, и воспользовался этим, чтобы поднять заработки своих рабочих, улучшить их жилищные условия и повысить их культурный уровень, особенно заботясь о школьном обучении их детей. Но Оуэн вынес из своего опыта убеждение, что он открыл общий метод воспитания людей, способный радикально изменить судьбу человечества. Метод «ассоциаций», развитый им в ряде книг и статей, составляет контраст с аналогичными проектами континентальных утопистов своим трезвым практицизмом, в нём не было вычурных выдумок и фантазий. Оуэн в самом деле знал, как устроить, в рамках обычного мира, необычное предприятие из нескольких сот человек. Но он хотел сделать необычным весь мир.
Но Оуэн вынес из своего опыта убеждение, что он открыл общий метод воспитания людей, способный радикально изменить судьбу человечества. Метод «ассоциаций», развитый им в ряде книг и статей, составляет контраст с аналогичными проектами континентальных утопистов своим трезвым практицизмом, в нём не было вычурных выдумок и фантазий. Оуэн в самом деле знал, как устроить, в рамках обычного мира, необычное предприятие из нескольких сот человек. Но он хотел сделать необычным весь мир.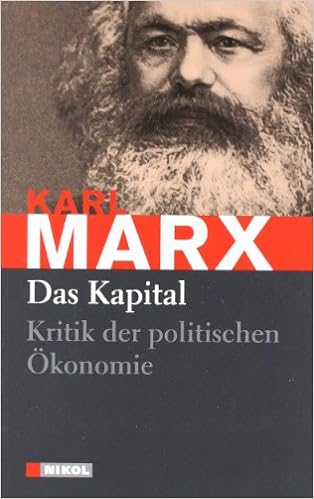
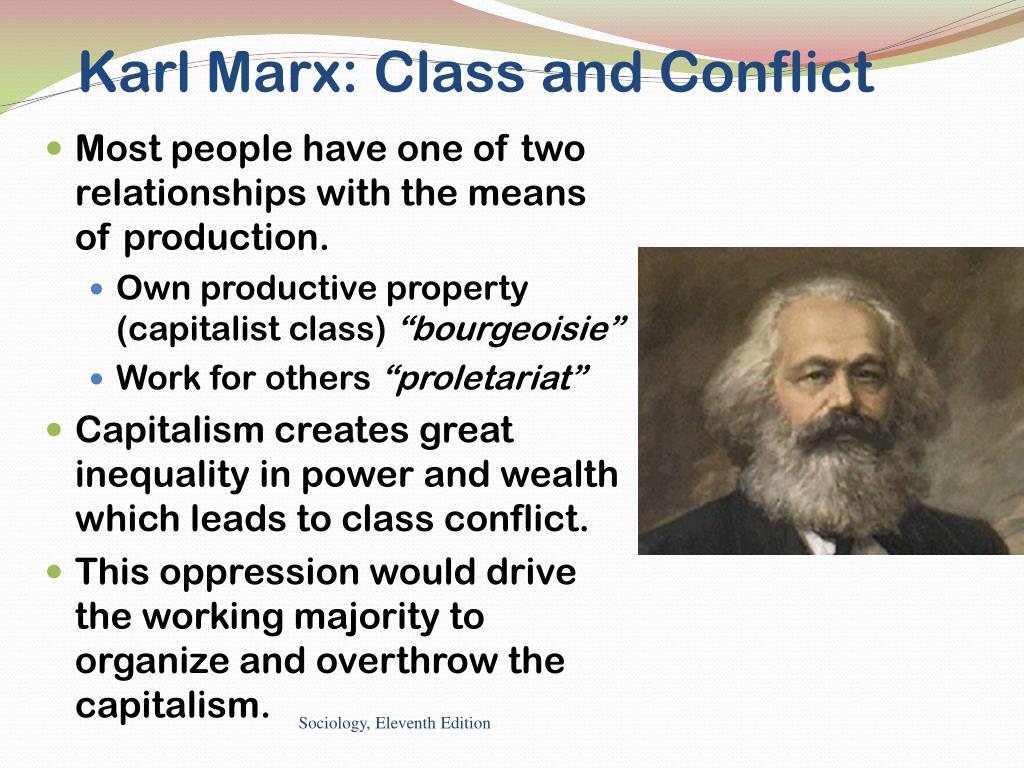 Оуэн представляет себе «семью» из 500 или 1000 человек, потому что у него в Нью-Ленарке было столько рабочих, а в нынешних предприятиях рабочих куда больше. Но это уже не семья, а небольшой город, и у жителей этого города могут быть взаимное товарищество и солидарность, но отнюдь не семейные отношения. Если уж искать аналогии, то это нечто вроде «племени»; но у племени надо ещё создать какую-то племенную культуру, а после этого будет совсем не просто устроить мирное сотрудничество таких племён. Во всяком случае, план превращения человечества в «единую семью» не кажется столь лёгким делом, как думает Оуэн.
Оуэн представляет себе «семью» из 500 или 1000 человек, потому что у него в Нью-Ленарке было столько рабочих, а в нынешних предприятиях рабочих куда больше. Но это уже не семья, а небольшой город, и у жителей этого города могут быть взаимное товарищество и солидарность, но отнюдь не семейные отношения. Если уж искать аналогии, то это нечто вроде «племени»; но у племени надо ещё создать какую-то племенную культуру, а после этого будет совсем не просто устроить мирное сотрудничество таких племён. Во всяком случае, план превращения человечества в «единую семью» не кажется столь лёгким делом, как думает Оуэн.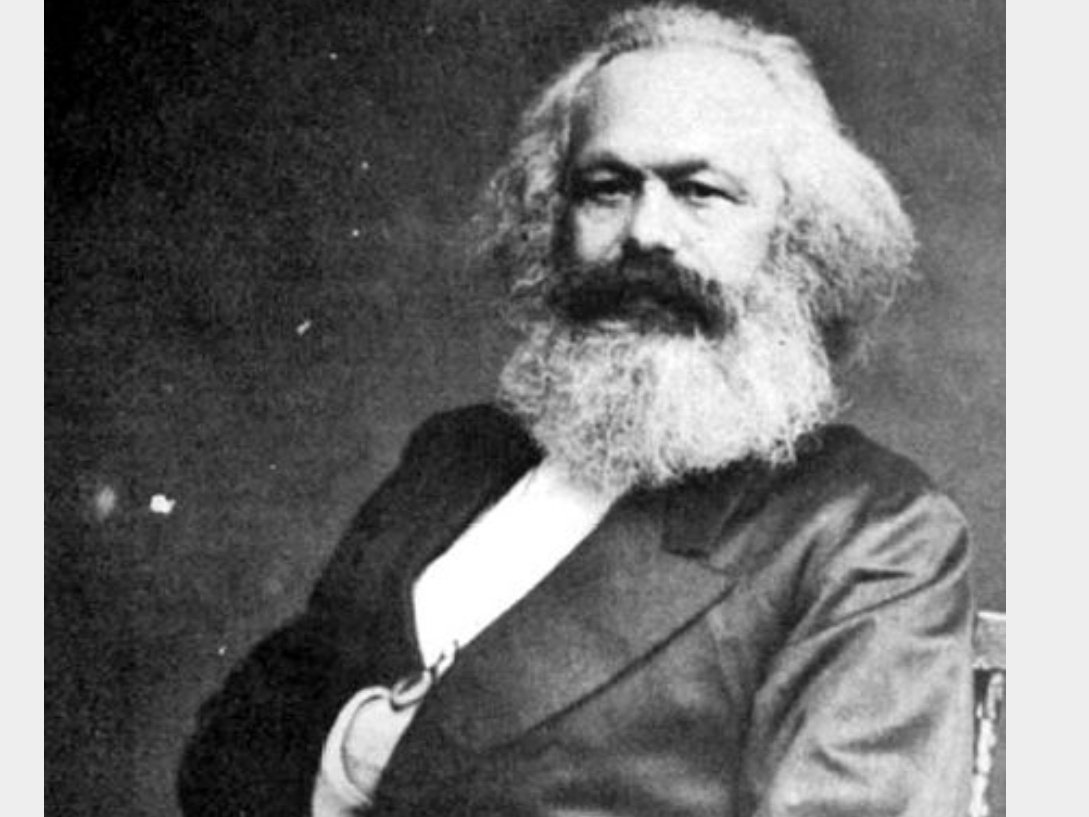 Для нас оно может означать отдельный дом для семьи, отдельные машины для членов семьи, собственную библиотеку; для наших внуков оно будет означать, конечно, множество ещё не известных нам вещей. Но, с другой стороны, вряд ли кто-нибудь захочет быть единственным прохожим на собственной улице, или единственным слушателем в собственном концертном зале. Серьёзный вопрос, конечно, это собственность на средства производства. Можно ли предоставить человеку собственный огород? Собственное поместье, которое он будет отдавать в аренду? Собственный металлургический завод? Собственную космическую ракету?
Для нас оно может означать отдельный дом для семьи, отдельные машины для членов семьи, собственную библиотеку; для наших внуков оно будет означать, конечно, множество ещё не известных нам вещей. Но, с другой стороны, вряд ли кто-нибудь захочет быть единственным прохожим на собственной улице, или единственным слушателем в собственном концертном зале. Серьёзный вопрос, конечно, это собственность на средства производства. Можно ли предоставить человеку собственный огород? Собственное поместье, которое он будет отдавать в аренду? Собственный металлургический завод? Собственную космическую ракету? Его последняя коммуна — «Гармони-Холл» — продержалась шесть лет и даже преуспевала, но не могла одолеть конкуренцию соседних фермеров; вероятно, эти фермеры использовали дешёвый наёмный труд. Оуэн прожил долгую жизнь, никогда не отчаиваясь в своих идеях: он помнил свой Нью-Ленарк. Несомненно, он упрощал «социальный вопрос», но упорно пытался его решить, прокладывая новые пути. И если можно представить себе коммунизм без насилия, то он был коммунист. Некоторых это не пугает: в Соединённых Штатах Америки до сих пор много коммун.
Его последняя коммуна — «Гармони-Холл» — продержалась шесть лет и даже преуспевала, но не могла одолеть конкуренцию соседних фермеров; вероятно, эти фермеры использовали дешёвый наёмный труд. Оуэн прожил долгую жизнь, никогда не отчаиваясь в своих идеях: он помнил свой Нью-Ленарк. Несомненно, он упрощал «социальный вопрос», но упорно пытался его решить, прокладывая новые пути. И если можно представить себе коммунизм без насилия, то он был коммунист. Некоторых это не пугает: в Соединённых Штатах Америки до сих пор много коммун.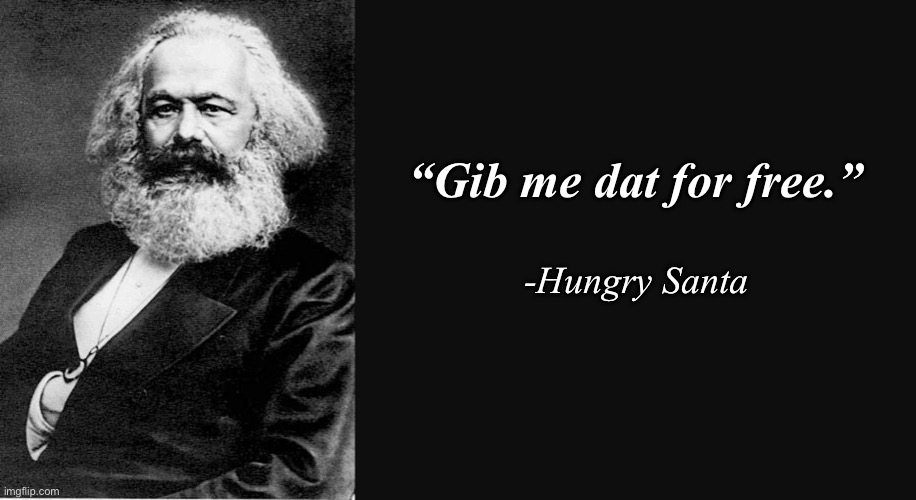 Таким образом, Оуэн был не только самым трезвым и вдумчивым из пионеров социализма, но и пионером современного капитализма — того социального компромисса, который выработался во второй половине XX века.
Таким образом, Оуэн был не только самым трезвым и вдумчивым из пионеров социализма, но и пионером современного капитализма — того социального компромисса, который выработался во второй половине XX века.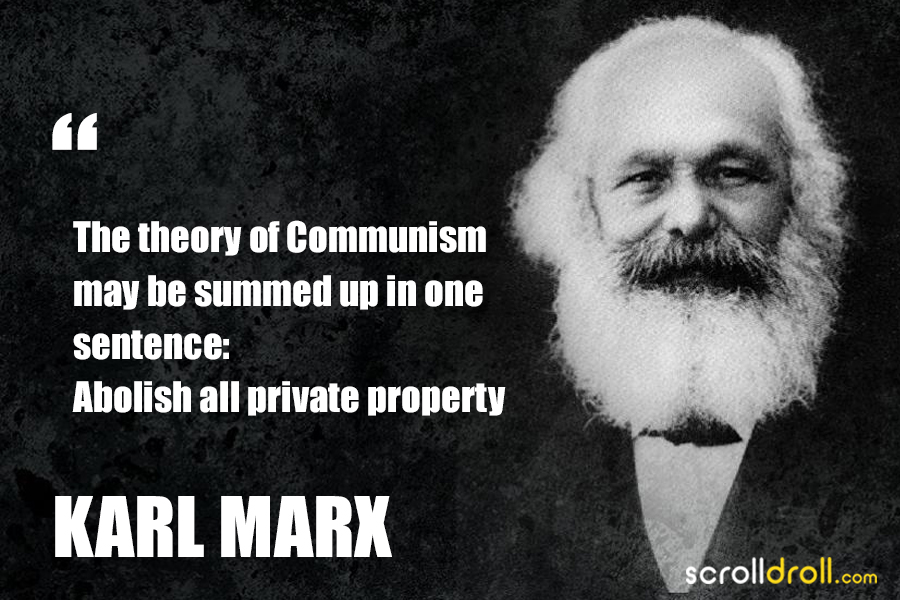 Но у рабочих было уже своё знамя, сознательно противопоставленное и белому знамени монархистов, и трехцветному знамени республиканцев: это было красное знамя.
Но у рабочих было уже своё знамя, сознательно противопоставленное и белому знамени монархистов, и трехцветному знамени республиканцев: это было красное знамя.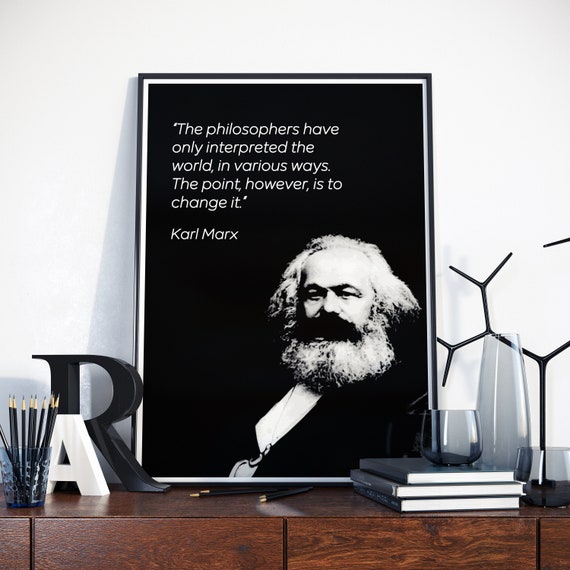 Как мы знаем, республиканский строй вовсе не влечёт за собой каких-либо социальных перемен, и Луи Блан мог в этом убедиться, когда парижских рабочих методически расстреливал другой республиканец, генерал Кавеньяк.
Как мы знаем, республиканский строй вовсе не влечёт за собой каких-либо социальных перемен, и Луи Блан мог в этом убедиться, когда парижских рабочих методически расстреливал другой республиканец, генерал Кавеньяк.
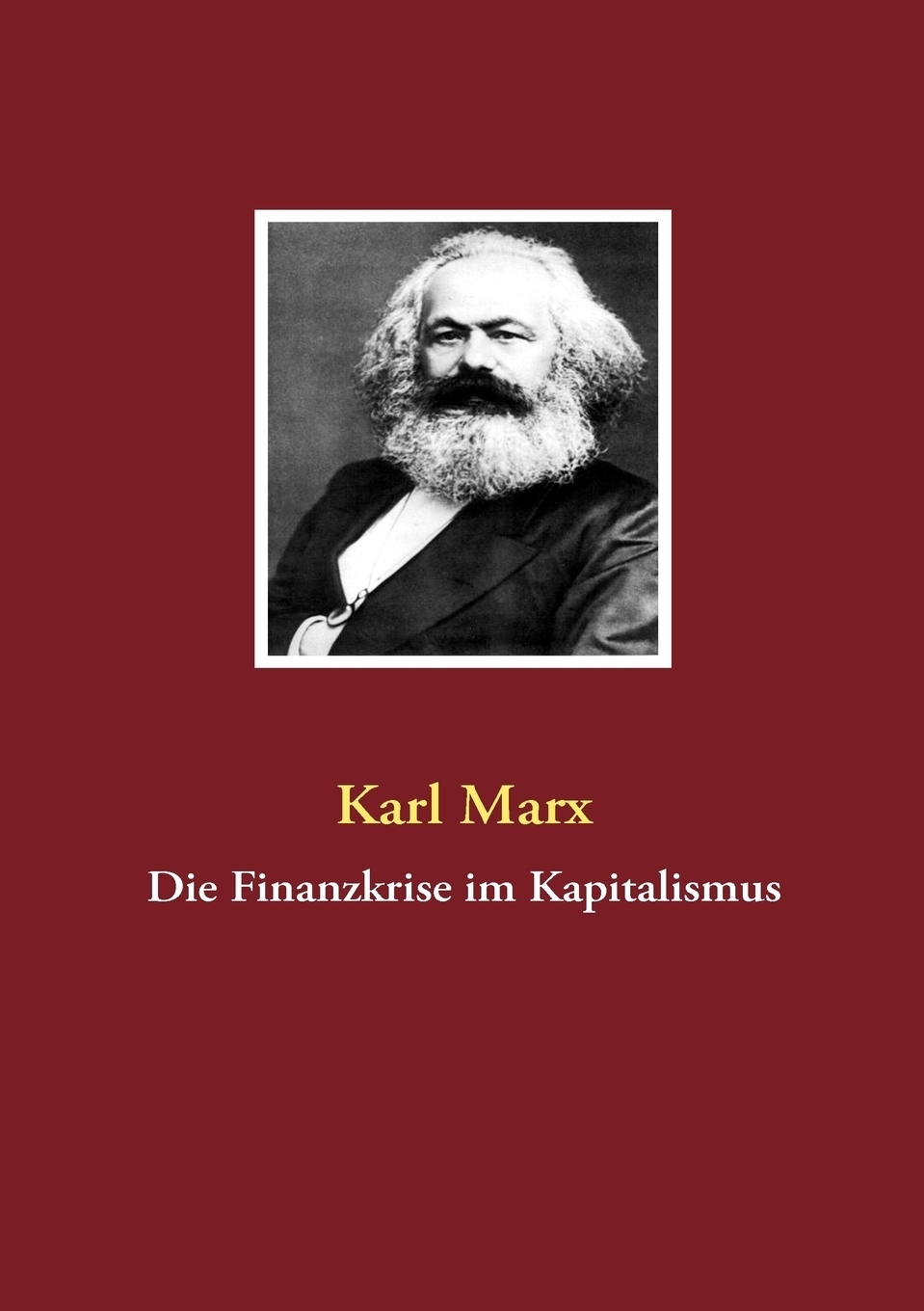 Он и был пророком: он создал последнюю ересь христианства, и в то же время первую религию без бога. Все утописты были, в том или ином смысле, его предтечи; он, как полагается пророку, использовал их наследие и от них отрекался. Ни один общественный деятель Нового времени не оказал такого мощного влияния на судьбы человечества, и пришло уже время оценить, говоря словами Перикла, содеянное им добро и зло.
Он и был пророком: он создал последнюю ересь христианства, и в то же время первую религию без бога. Все утописты были, в том или ином смысле, его предтечи; он, как полагается пророку, использовал их наследие и от них отрекался. Ни один общественный деятель Нового времени не оказал такого мощного влияния на судьбы человечества, и пришло уже время оценить, говоря словами Перикла, содеянное им добро и зло. Таким образом, Марксу не пришлось выбирать себе религию, и уже очень рано выяснилось, что ему не нужно было никакой. Еврейское происхождение тоже его мало беспокоило — он не придавал ему никакого значения.
Таким образом, Марксу не пришлось выбирать себе религию, и уже очень рано выяснилось, что ему не нужно было никакой. Еврейское происхождение тоже его мало беспокоило — он не придавал ему никакого значения.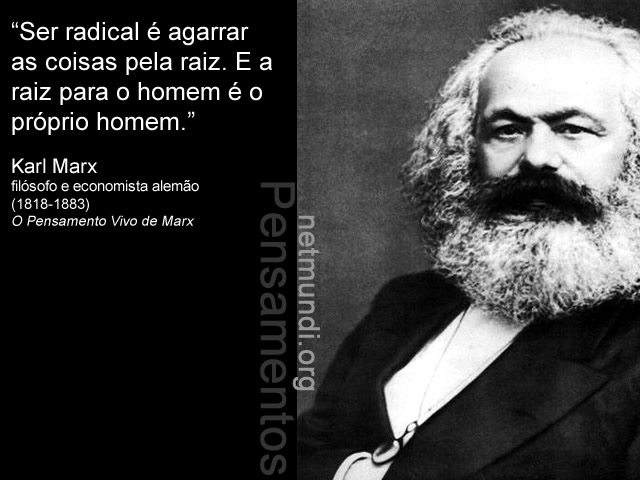 Гегель уже умер, и преподавание осталось в руках его слабых преемников; но Маркс вошёл в круг молодых, радикально настроенных гегельянцев — так называемый «докторский клуб». Особое влияние оказал на него Бруно Бауэр. У него были тогда, главным образом, философские интересы, но и в этом он был с самого начала крайний радикал. На это указывает уже тема его докторской диссертации: «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (1839–1841). Так как в прусских университетах усиливается реакция, Маркс получает диплом доктора философии от «иностранного» Иенского университета.
Гегель уже умер, и преподавание осталось в руках его слабых преемников; но Маркс вошёл в круг молодых, радикально настроенных гегельянцев — так называемый «докторский клуб». Особое влияние оказал на него Бруно Бауэр. У него были тогда, главным образом, философские интересы, но и в этом он был с самого начала крайний радикал. На это указывает уже тема его докторской диссертации: «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (1839–1841). Так как в прусских университетах усиливается реакция, Маркс получает диплом доктора философии от «иностранного» Иенского университета. Но он уже знаком с сочинениями Консидерана (изложившего систему Фурье без его фантазий) и Леру (впервые пустившего в обращение термины «социализм» и «солидарность»). И он осторожно пишет в газете, что эти понятия заслуживают серьёзного изучения, прежде чем делать выводы. В дальнейшей жизни он редко будет так осторожен!
Но он уже знаком с сочинениями Консидерана (изложившего систему Фурье без его фантазий) и Леру (впервые пустившего в обращение термины «социализм» и «солидарность»). И он осторожно пишет в газете, что эти понятия заслуживают серьёзного изучения, прежде чем делать выводы. В дальнейшей жизни он редко будет так осторожен!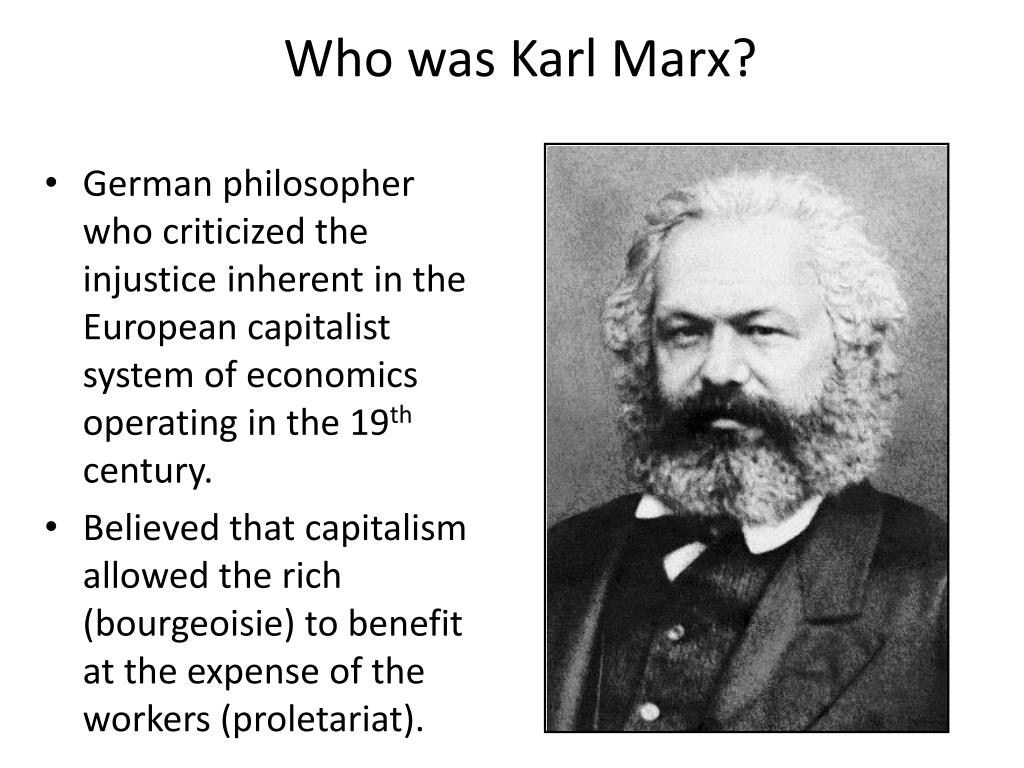 Но английский перевод её выйдет лишь в 1890-е годы!
Но английский перевод её выйдет лишь в 1890-е годы!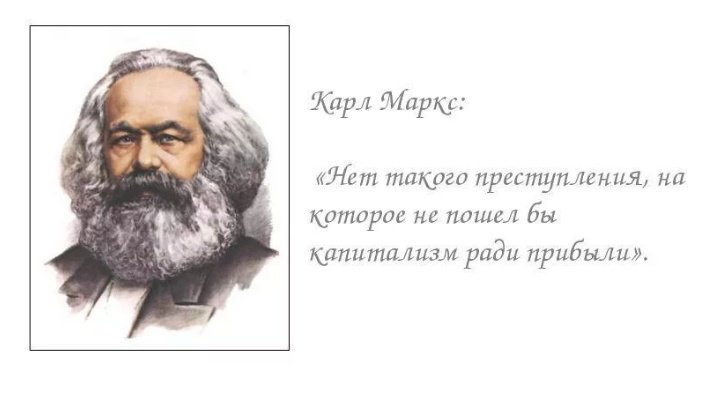 В конечном счёте это ему не удаётся: Бакунин с его сторонниками-анархистами расшатывают единство организации. Несмотря на всю эту политическую деятельность, Маркс продолжает работу над своим основным трудом: 14 сентября 1867 года в Гамбурге выходит первый том «Капитала». Первый перевод этой книги — на русский язык — выходит в 1872 году: царская цензура, отметив тенденции книги, находит её доступной только для учёных, и, следовательно, безвредной. Второй и третий томы так и не были завершены; Энгельс издал всё, что Маркс успел написать. В действительности и первый том не получился вполне цельным: в нём подразумевается учение Маркса о человеке — его «философская антропология» — намеченная им в его (не опубликованных при жизни) юношеских работах; не была подробно изложена также идея классовой борьбы. «Капитал» остался недостроенным колоссальным сооружением. Причина этой неудачи была в том, что Маркс, подобно своему учителю Рикардо, не мог справиться с «трудовой теорией стоимости» и видел её трудности.
В конечном счёте это ему не удаётся: Бакунин с его сторонниками-анархистами расшатывают единство организации. Несмотря на всю эту политическую деятельность, Маркс продолжает работу над своим основным трудом: 14 сентября 1867 года в Гамбурге выходит первый том «Капитала». Первый перевод этой книги — на русский язык — выходит в 1872 году: царская цензура, отметив тенденции книги, находит её доступной только для учёных, и, следовательно, безвредной. Второй и третий томы так и не были завершены; Энгельс издал всё, что Маркс успел написать. В действительности и первый том не получился вполне цельным: в нём подразумевается учение Маркса о человеке — его «философская антропология» — намеченная им в его (не опубликованных при жизни) юношеских работах; не была подробно изложена также идея классовой борьбы. «Капитал» остался недостроенным колоссальным сооружением. Причина этой неудачи была в том, что Маркс, подобно своему учителю Рикардо, не мог справиться с «трудовой теорией стоимости» и видел её трудности. Он был удовлетворён этой теорией как философ, но недоволен ей как экономист.
Он был удовлетворён этой теорией как философ, но недоволен ей как экономист. Этим путём идёт западный марксизм. В 1919 году в Москве будет основан Третий, Коммунистический Интернационал, вдохновителем которого станет марксист восточного толка, Ульянов-Ленин.
Этим путём идёт западный марксизм. В 1919 году в Москве будет основан Третий, Коммунистический Интернационал, вдохновителем которого станет марксист восточного толка, Ульянов-Ленин. Выводы, сделанные Марксом из его модели, относились уже не к науке, а к философии, или, точнее, к созданной им «религии».
Выводы, сделанные Марксом из его модели, относились уже не к науке, а к философии, или, точнее, к созданной им «религии».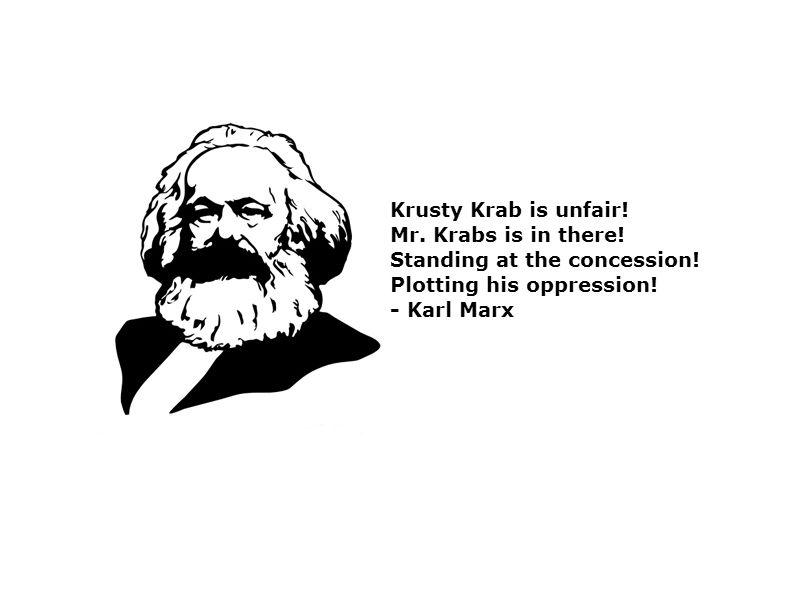 Различные случайные обстоятельства могут иногда держать их на значительно более высоком уровне, а иногда несколько понижать по сравнению с нею. Но каковы бы ни были препятствия, которые отклоняют цены от этого устойчивого центра, цены постоянно тяготеют к нему».
Различные случайные обстоятельства могут иногда держать их на значительно более высоком уровне, а иногда несколько понижать по сравнению с нею. Но каковы бы ни были препятствия, которые отклоняют цены от этого устойчивого центра, цены постоянно тяготеют к нему». В механике господствовало понятие силы, введённое Ньютоном в его теорию тяготения и заимствованное из повседневной практики человека. Конечно, сила тяготения, действовавшая через пустое пространство, не похожа была на силу человека и животных, применяемую в их работе, что и вызывало трудности у Галилея. Но происхождение этого понятия не вызывает сомнений. Понятие работы тоже нашло своё место в механике: самое слово появилось у физиков позже, но работа по существу входила уже в «уравнение живых сил» Лагранжа. Это старинное название того, что мы теперь называем законом сохранения энергии, ярче всего свидетельствует о переносе законов Ньютона из небесной механики в механику земных механизмов, то есть в новое инженерное искусство.
В механике господствовало понятие силы, введённое Ньютоном в его теорию тяготения и заимствованное из повседневной практики человека. Конечно, сила тяготения, действовавшая через пустое пространство, не похожа была на силу человека и животных, применяемую в их работе, что и вызывало трудности у Галилея. Но происхождение этого понятия не вызывает сомнений. Понятие работы тоже нашло своё место в механике: самое слово появилось у физиков позже, но работа по существу входила уже в «уравнение живых сил» Лагранжа. Это старинное название того, что мы теперь называем законом сохранения энергии, ярче всего свидетельствует о переносе законов Ньютона из небесной механики в механику земных механизмов, то есть в новое инженерное искусство.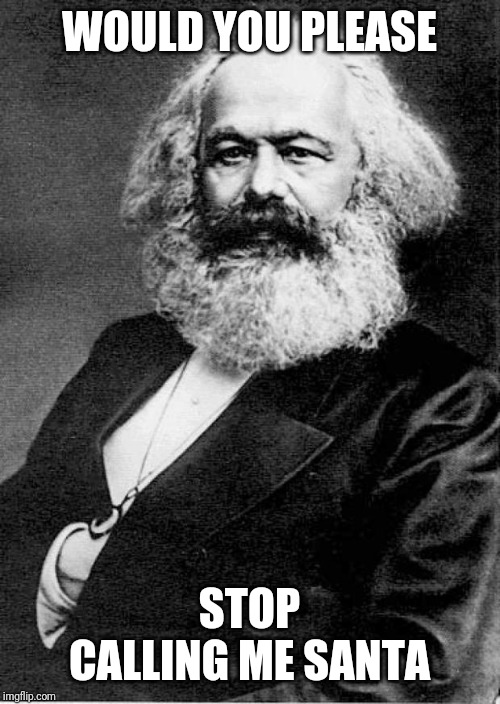 На нашем языке эта работа выражалась в возрастании потенциальной энергии руды, причём величина возрастания зависела в этом частном случае лишь от высоты подъёма, но не от подробностей этой операции, и в среднем была пропорциональна времени труда. Рикардо представлял себе, что превращение сырья в товар, или одного товара в другой, можно разбить на этапы, соответствующие простым трудовым операциям. Если измерить затрату труда на каждом из этих этапов числом рабочих часов, то общее число часов, как полагал Рикардо, может служить мерой приращения «ценности», или «стоимости» товара, по сравнению со «стоимостью» сырья. Но тогда, прибавив это число к уже известной цене сырья, можно получить «естественную» цену товара.
На нашем языке эта работа выражалась в возрастании потенциальной энергии руды, причём величина возрастания зависела в этом частном случае лишь от высоты подъёма, но не от подробностей этой операции, и в среднем была пропорциональна времени труда. Рикардо представлял себе, что превращение сырья в товар, или одного товара в другой, можно разбить на этапы, соответствующие простым трудовым операциям. Если измерить затрату труда на каждом из этих этапов числом рабочих часов, то общее число часов, как полагал Рикардо, может служить мерой приращения «ценности», или «стоимости» товара, по сравнению со «стоимостью» сырья. Но тогда, прибавив это число к уже известной цене сырья, можно получить «естественную» цену товара.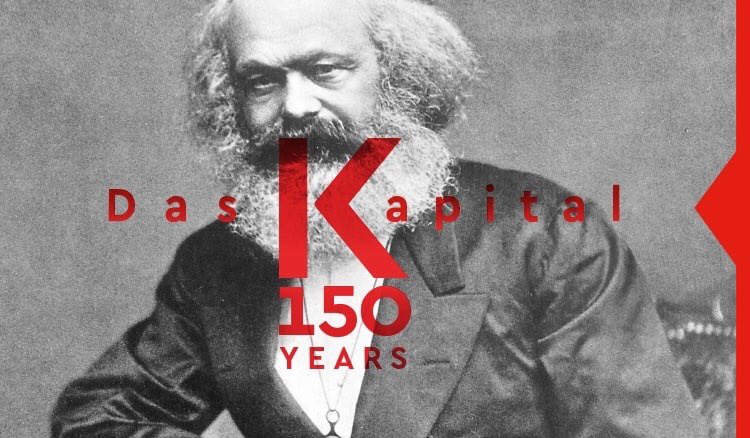 Системы, для которых верна теорема Лагранжа, называются «консервативными»: таковы системы небесной механики и, с некоторым приближением, многие технические устройства. Но при изготовлении товара этапы производства и трудовые операции могут выбираться по-разному, так что общее время работы не является постоянной величиной; оно в особенности зависит от применяемой техники. Поэтому то, что Рикардо называет приращением стоимости, зависит не только от начального и конечного состояния товара: экономические системы заведомо «не консервативны».
Системы, для которых верна теорема Лагранжа, называются «консервативными»: таковы системы небесной механики и, с некоторым приближением, многие технические устройства. Но при изготовлении товара этапы производства и трудовые операции могут выбираться по-разному, так что общее время работы не является постоянной величиной; оно в особенности зависит от применяемой техники. Поэтому то, что Рикардо называет приращением стоимости, зависит не только от начального и конечного состояния товара: экономические системы заведомо «не консервативны». Поэтому «стоимость» — вовсе не величина в смысле естествознания.
Поэтому «стоимость» — вовсе не величина в смысле естествознания.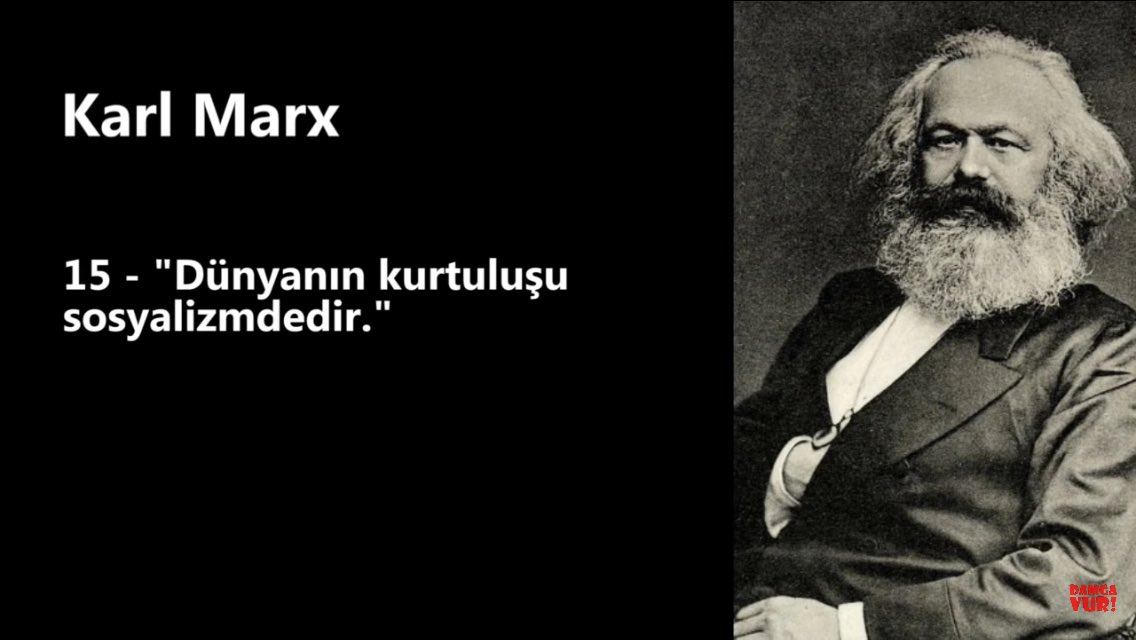 Об этом свидетельствуют многие места его сочинений, и прежде всего родственные им сочинения Энгельса — «Диалектика природы» и «Анти-Дюринг» [1Уверенный тон суждений Маркса и Энгельса основывается в таких случаях вовсе не на знании. Гегель был анекдотически невежествен в ес-тественных науках, но так же уверен в себе. Было бы слишком скучно перечислять их ошибки].
Об этом свидетельствуют многие места его сочинений, и прежде всего родственные им сочинения Энгельса — «Диалектика природы» и «Анти-Дюринг» [1Уверенный тон суждений Маркса и Энгельса основывается в таких случаях вовсе не на знании. Гегель был анекдотически невежествен в ес-тественных науках, но так же уверен в себе. Было бы слишком скучно перечислять их ошибки].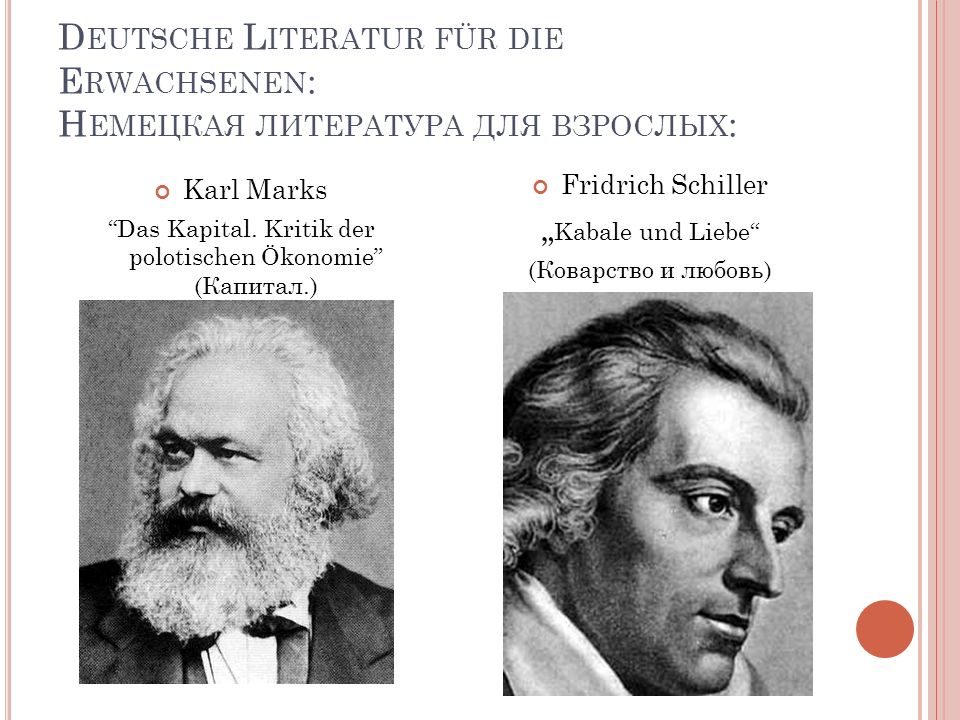 С этой точки зрения они могут отличаться друг от друга лишь тем, что представляют большее или меньшее количество труда. Например, на шелковый платок может быть затрачено большее количество труда, чем на кирпич. Однако чем измеряется количество труда? Временем, в течение которого продолжается труд, — часами, днями и так далее. Для того чтобы к труду можно было прилагать эту меру, все виды труда должны быть сведены к среднему или простому труду, как их единству.
С этой точки зрения они могут отличаться друг от друга лишь тем, что представляют большее или меньшее количество труда. Например, на шелковый платок может быть затрачено большее количество труда, чем на кирпич. Однако чем измеряется количество труда? Временем, в течение которого продолжается труд, — часами, днями и так далее. Для того чтобы к труду можно было прилагать эту меру, все виды труда должны быть сведены к среднему или простому труду, как их единству.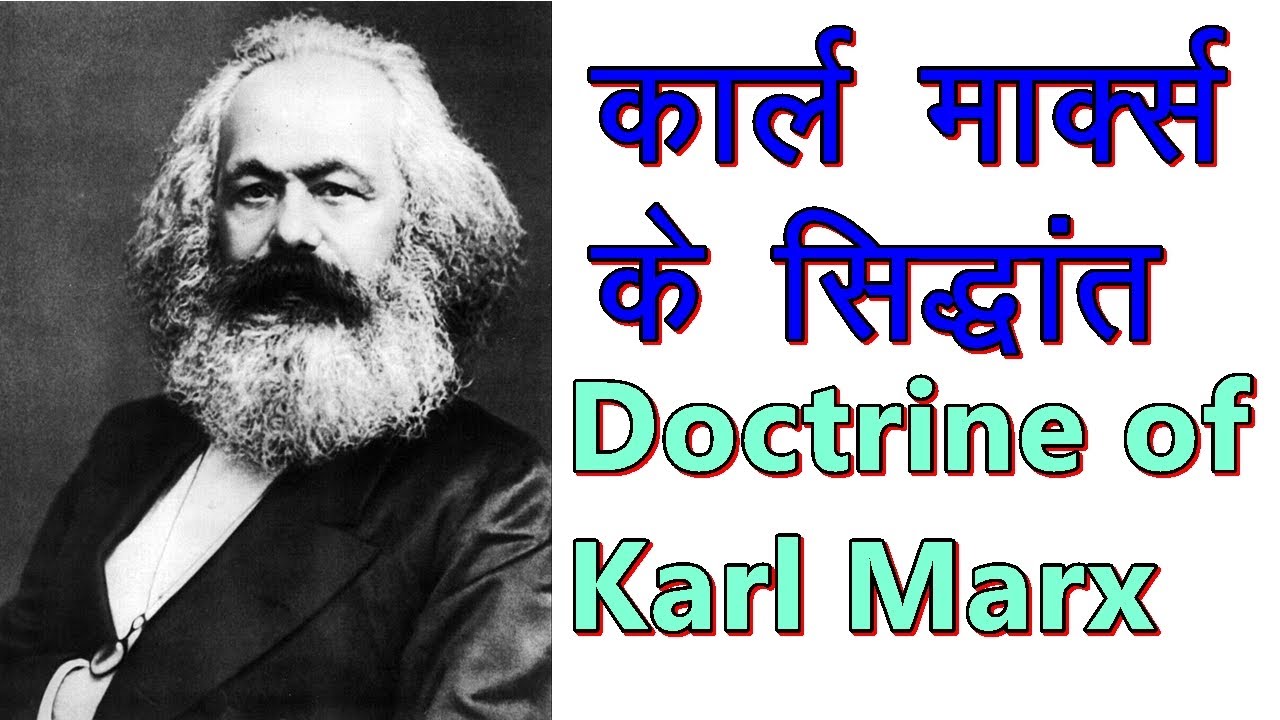 Соответствующие количества товаров, для производства которых требуется одинаковое рабочее время, равны. Или: стоимость одного товара относится к стоимости другого товара, как количество труда, фиксированное в одном из них, относится к количеству труда, фиксированному в другом».
Соответствующие количества товаров, для производства которых требуется одинаковое рабочее время, равны. Или: стоимость одного товара относится к стоимости другого товара, как количество труда, фиксированное в одном из них, относится к количеству труда, фиксированному в другом». Новый способ выделки кирпичей или изготовления платков может изменить то отношение часов труда, о котором говорит Маркс, но при этом кирпич и платок могут остаться теми же телами. Конечно, можно сказать, что теперь изменилось число «общественно необходимых» часов труда, но во сколько раз? Мы не можем определить величину «стоимости», рассматривая самый товар, а должны ещё знать всю процедуру его изготовления. Но тогда все разговоры о «воплощённом, фиксированном, кристаллизованном» в товаре числе часов не имеют смысла. «Стоимость» — не величина в смысле естествознания, а философская фикция. Рыночная цена товара не связана ни с какой его «естественной» ценой, потому что «естественной» цены у товара нет.
Новый способ выделки кирпичей или изготовления платков может изменить то отношение часов труда, о котором говорит Маркс, но при этом кирпич и платок могут остаться теми же телами. Конечно, можно сказать, что теперь изменилось число «общественно необходимых» часов труда, но во сколько раз? Мы не можем определить величину «стоимости», рассматривая самый товар, а должны ещё знать всю процедуру его изготовления. Но тогда все разговоры о «воплощённом, фиксированном, кристаллизованном» в товаре числе часов не имеют смысла. «Стоимость» — не величина в смысле естествознания, а философская фикция. Рыночная цена товара не связана ни с какой его «естественной» ценой, потому что «естественной» цены у товара нет. Маркс решил определить «стоимость» этого товара таким же способом, как стоимость всех других товаров: числом часов, необходимых для производства рабочей силы, то есть для поддержания способности рабочего выполнять условленную работу (и подготовлять потомство, необходимое для воспроизводства своей рабочей силы). Иначе говоря, все вещи, нужные для жизни рабочего и его семьи — в предположении, что эта жизнь не имеет никаких других целей, кроме работы — имеют совокупную «стоимость», которая и принимается за «стоимость» его рабочей силы. Маркс очень гордился этой конструкцией и сделал из неё далеко идущие выводы.
Маркс решил определить «стоимость» этого товара таким же способом, как стоимость всех других товаров: числом часов, необходимых для производства рабочей силы, то есть для поддержания способности рабочего выполнять условленную работу (и подготовлять потомство, необходимое для воспроизводства своей рабочей силы). Иначе говоря, все вещи, нужные для жизни рабочего и его семьи — в предположении, что эта жизнь не имеет никаких других целей, кроме работы — имеют совокупную «стоимость», которая и принимается за «стоимость» его рабочей силы. Маркс очень гордился этой конструкцией и сделал из неё далеко идущие выводы.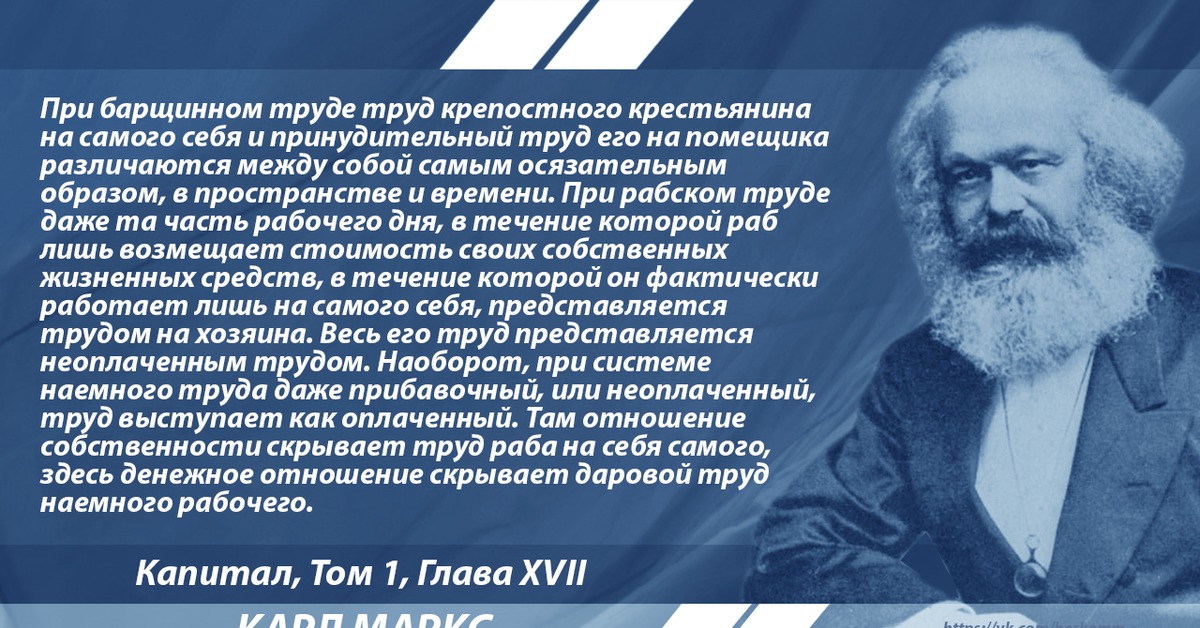 В частности, рабочий получает заработную плату, равную «стоимости» проданной им рабочей силы, то есть (с точки зрения рыночного хозяйства) капиталист его «не обманывает». Но рабочий день, входящий в понятие «рабочей силы», имеет продолжительность, вовсе не связанную с потребностями или вкусами рабочего; он задаётся общественными условиями: более короткий рабочий день капиталист не купит, а на более длинный рабочие не пойдут — или не способны. За «стандартный» рабочий день рабочий производит товар, «стоимость» которого всегда больше «стоимости» его рабочей силы. Разность между «стоимостью» произведённого товара и «стоимостью» затраченной рабочей силы Маркс называет «прибавочной стоимостью». Эту разность, — говорит Маркс, — и присваивает капиталист, продав произведённый товар. Получается так, как будто рабочий уже за часть своего рабочего дня производит «стоимость», равную «стоимости» его рабочей силы, а всё остальное время трудится даром.
В частности, рабочий получает заработную плату, равную «стоимости» проданной им рабочей силы, то есть (с точки зрения рыночного хозяйства) капиталист его «не обманывает». Но рабочий день, входящий в понятие «рабочей силы», имеет продолжительность, вовсе не связанную с потребностями или вкусами рабочего; он задаётся общественными условиями: более короткий рабочий день капиталист не купит, а на более длинный рабочие не пойдут — или не способны. За «стандартный» рабочий день рабочий производит товар, «стоимость» которого всегда больше «стоимости» его рабочей силы. Разность между «стоимостью» произведённого товара и «стоимостью» затраченной рабочей силы Маркс называет «прибавочной стоимостью». Эту разность, — говорит Маркс, — и присваивает капиталист, продав произведённый товар. Получается так, как будто рабочий уже за часть своего рабочего дня производит «стоимость», равную «стоимости» его рабочей силы, а всё остальное время трудится даром.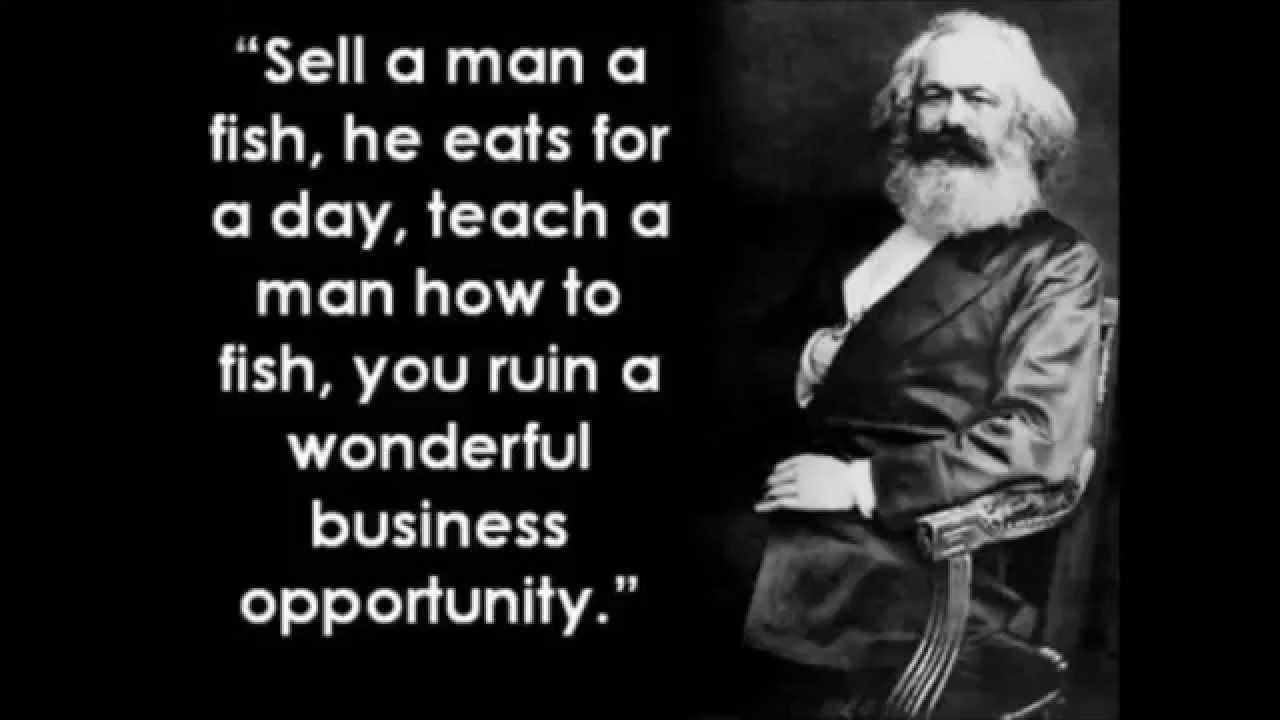 Поддержание, а тем более создание производства требует от капиталиста затрат, да и сам капиталист вкладывает в производство свою рабочую силу (в старину он и в самом деле часто управлял производством). Если все это учесть, то всё равно капиталист получает доход. Если в предприятие вложен некоторый капитал, то в среднем годовой доход с него («норма прибыли») составляет в наше время около 11 процентов, а в прошлом был значительно выше. Если даже принять в расчёт периодические расходы на модернизацию, то всё равно доход остаётся: капиталист кладёт его себе в карман и использует, как хочет. Если бы не было этого дохода, никто бы не становился капиталистом.
Поддержание, а тем более создание производства требует от капиталиста затрат, да и сам капиталист вкладывает в производство свою рабочую силу (в старину он и в самом деле часто управлял производством). Если все это учесть, то всё равно капиталист получает доход. Если в предприятие вложен некоторый капитал, то в среднем годовой доход с него («норма прибыли») составляет в наше время около 11 процентов, а в прошлом был значительно выше. Если даже принять в расчёт периодические расходы на модернизацию, то всё равно доход остаётся: капиталист кладёт его себе в карман и использует, как хочет. Если бы не было этого дохода, никто бы не становился капиталистом. Сложнее понять, что имеется в виду под словом «справедливость». Это понятие нельзя определить в терминах экономики. «Справедливость» — ценностное понятие. Оно предполагает систему ценностей, зависящую от доминирующей культуры. Если считать справедливыми учреждения, не противоречащие законам данного общества, то, как отмечает сам Маркс, капитализм, при котором все товары покупаются по их «стоимости», вполне справедлив; столь же справедлив был капитализм в южных штатах Америки, где было рабство: по законам этих штатов, раб рассматривался как товар (не рабочая сила раба, а сам раб!), и если раба покупали по его «стоимости», то не возникало проблем. Очевидно, под «справедливостью» понимают нечто иное, чем простое соблюдение законов.
Сложнее понять, что имеется в виду под словом «справедливость». Это понятие нельзя определить в терминах экономики. «Справедливость» — ценностное понятие. Оно предполагает систему ценностей, зависящую от доминирующей культуры. Если считать справедливыми учреждения, не противоречащие законам данного общества, то, как отмечает сам Маркс, капитализм, при котором все товары покупаются по их «стоимости», вполне справедлив; столь же справедлив был капитализм в южных штатах Америки, где было рабство: по законам этих штатов, раб рассматривался как товар (не рабочая сила раба, а сам раб!), и если раба покупали по его «стоимости», то не возникало проблем. Очевидно, под «справедливостью» понимают нечто иное, чем простое соблюдение законов.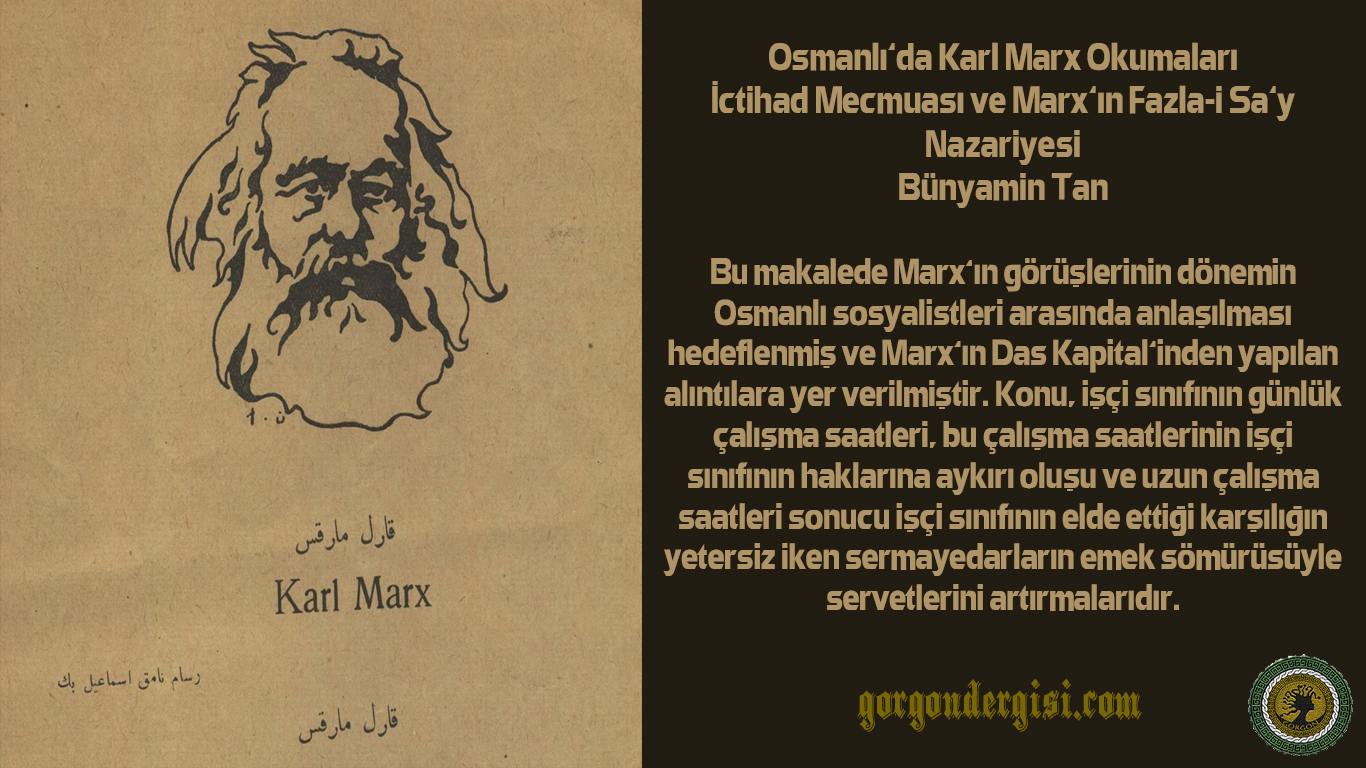 Важное моральное правило, часто забываемое, но неизменно вспоминаемое снова и снова, состоит в том, что каждый должен вознаграждаться по его полезному для общества труду. Это правило гораздо старше всякого «социализма»: оно испокон веку применялось к оценке личности человека. Само собой разумеется, нет никакого общего способа оценить выполненный человеком труд и, тем самым, его личность: такие оценки зависят от исторических условий и человеческих понятий в данное время и в данном месте. Но ведь и чувства людей не оцениваются численно: речь идёт не об измерении справедливости. Несомненно, что при капитализме, то есть в рыночном хозяйстве с наёмным трудом, предприниматель получает гораздо б`oльшую долю от проданного товара, чем наёмный рабочий. Если вы верите, что его особый вклад в производство заслуживает такого чрезвычайного вознаграждения, то вы можете найти такое распределение дохода «справедливым» — даже если он акционер, лишь получающий дивиденды и никогда не видевший предприятия.
Важное моральное правило, часто забываемое, но неизменно вспоминаемое снова и снова, состоит в том, что каждый должен вознаграждаться по его полезному для общества труду. Это правило гораздо старше всякого «социализма»: оно испокон веку применялось к оценке личности человека. Само собой разумеется, нет никакого общего способа оценить выполненный человеком труд и, тем самым, его личность: такие оценки зависят от исторических условий и человеческих понятий в данное время и в данном месте. Но ведь и чувства людей не оцениваются численно: речь идёт не об измерении справедливости. Несомненно, что при капитализме, то есть в рыночном хозяйстве с наёмным трудом, предприниматель получает гораздо б`oльшую долю от проданного товара, чем наёмный рабочий. Если вы верите, что его особый вклад в производство заслуживает такого чрезвычайного вознаграждения, то вы можете найти такое распределение дохода «справедливым» — даже если он акционер, лишь получающий дивиденды и никогда не видевший предприятия.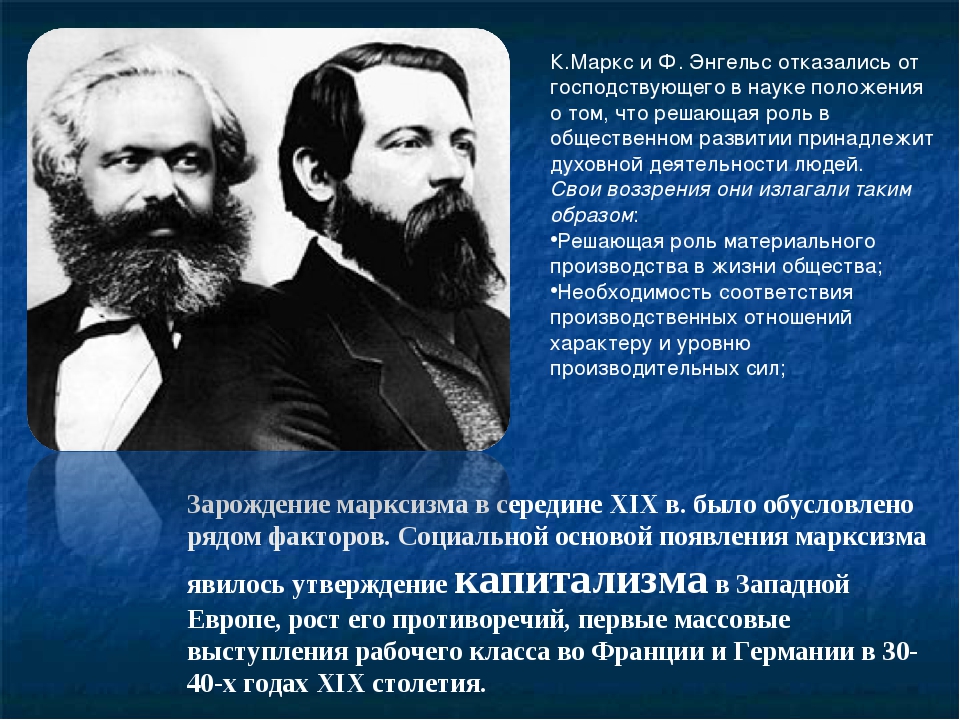 Если вы в это не верите — а подавляющее большинство наёмных рабочих в это не верит — то вы и без Маркса осудите капиталистическую систему, при которой слишком много людей получает особые блага за свой статус собственника, то есть за бумаги, так или иначе оказавшиеся в их владении. Это ваше суждение будет носить не количественный, а качественный характер: вы не будете в точности знать, как много предприниматель получает без всяких заслуг.
Если вы в это не верите — а подавляющее большинство наёмных рабочих в это не верит — то вы и без Маркса осудите капиталистическую систему, при которой слишком много людей получает особые блага за свой статус собственника, то есть за бумаги, так или иначе оказавшиеся в их владении. Это ваше суждение будет носить не количественный, а качественный характер: вы не будете в точности знать, как много предприниматель получает без всяких заслуг.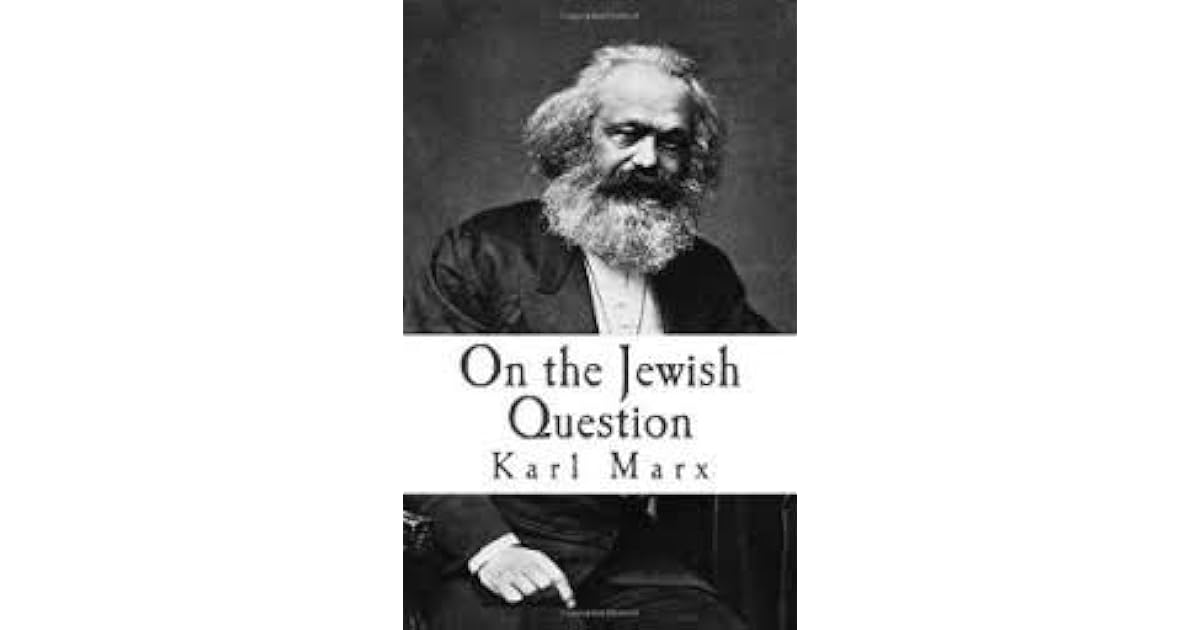 Казалось бы, люди, к которым обращались социалисты, и так были убеждены в том, что капиталисты незаслуженно присваивают себе всё упомянутые блага. Но особая историческая роль понятия «прибавочной стоимости» состояла в «рационализации» этого убеждения: оно создавало иллюзию, будто эти незаслуженные блага можно оценить количественно. В самом деле, если известна «стоимость» рабочей силы и «стоимость» произведённого этой силой продукта, то разность этих стоимостей, то есть «прибавочная стоимость», как раз и составляет незаслуженный доход капиталиста, то есть меру эксплуатации рабочего капиталистом!
Казалось бы, люди, к которым обращались социалисты, и так были убеждены в том, что капиталисты незаслуженно присваивают себе всё упомянутые блага. Но особая историческая роль понятия «прибавочной стоимости» состояла в «рационализации» этого убеждения: оно создавало иллюзию, будто эти незаслуженные блага можно оценить количественно. В самом деле, если известна «стоимость» рабочей силы и «стоимость» произведённого этой силой продукта, то разность этих стоимостей, то есть «прибавочная стоимость», как раз и составляет незаслуженный доход капиталиста, то есть меру эксплуатации рабочего капиталистом! Самые опасные заблуждения возникают таким путём. Но всё это не означает, что капитализм «справедлив!»
Самые опасные заблуждения возникают таким путём. Но всё это не означает, что капитализм «справедлив!»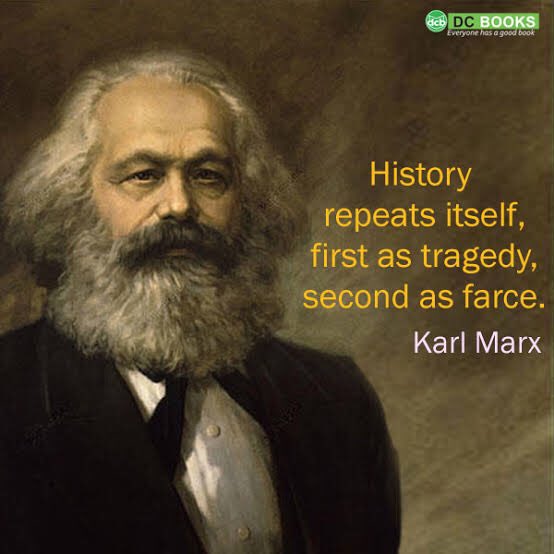 Впрочем, и в новом издании перевод настолько безграмотен, что смысл часто ускользает от читателя], признаёт значение Маркса в области философии истории — и его влияние на своё собственное развитие. И всё же, создаётся впечатление, что заслуги Маркса в этой области у Рассела недостаточно подчёркнуты. Маркс понял значение — и стимулировал изучение — двух движущих сил истории: экономических мотивов человеческого поведения и классовой борьбы. Конечно, у Маркса были предшественники, но он осознал важность этих идей, как никто до него.
Впрочем, и в новом издании перевод настолько безграмотен, что смысл часто ускользает от читателя], признаёт значение Маркса в области философии истории — и его влияние на своё собственное развитие. И всё же, создаётся впечатление, что заслуги Маркса в этой области у Рассела недостаточно подчёркнуты. Маркс понял значение — и стимулировал изучение — двух движущих сил истории: экономических мотивов человеческого поведения и классовой борьбы. Конечно, у Маркса были предшественники, но он осознал важность этих идей, как никто до него. Конечно, это вариация старой темы преемственности наций (Восток — Греция — Рим — Галлия), но гегелевский Абсолют, по-видимому, не только развлекается, но и сам развивается в ходе игры. Самая концепция исторического развития, конечно, была здесь не нова. [Главные идеи философии истории (и права) Гегель заимствовал у Гердера, которому был и лично обязан, но на которого не ссылался. Впрочем, Гегель исправил план Абсолюта, чтобы завершить его прус-ской монархией].
Конечно, это вариация старой темы преемственности наций (Восток — Греция — Рим — Галлия), но гегелевский Абсолют, по-видимому, не только развлекается, но и сам развивается в ходе игры. Самая концепция исторического развития, конечно, была здесь не нова. [Главные идеи философии истории (и права) Гегель заимствовал у Гердера, которому был и лично обязан, но на которого не ссылался. Впрочем, Гегель исправил план Абсолюта, чтобы завершить его прус-ской монархией].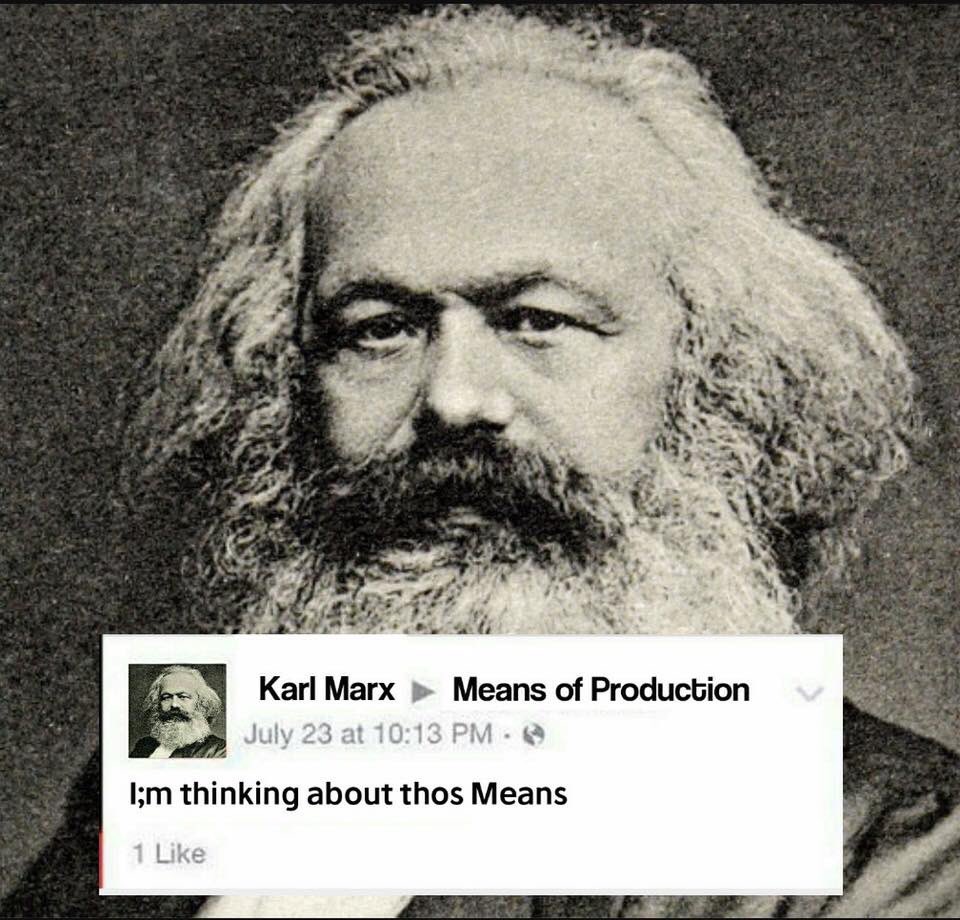 Но до Маркса как раз экономическая сторона истории находилась в пренебрежении, и его заслуга состоит в том, что он подчеркнул роль «бытия».
Но до Маркса как раз экономическая сторона истории находилась в пренебрежении, и его заслуга состоит в том, что он подчеркнул роль «бытия».


 Вот эти мероприятия, которые «в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены»:
Вот эти мероприятия, которые «в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены»: Устранение фабричного труда детей в современной его форме. Соединение воспитания с материальным производством и так далее.
Устранение фабричного труда детей в современной его форме. Соединение воспитания с материальным производством и так далее.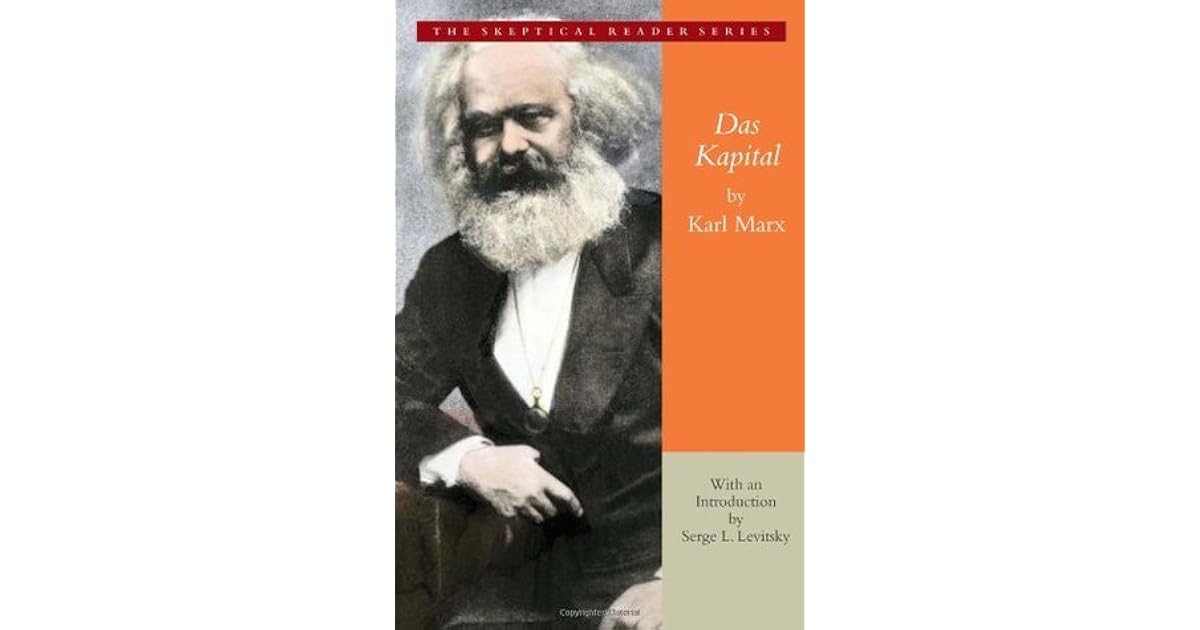
 Но он уверенно предсказывал будущее, и в этом смысле исполнял функцию пророка. Был ли он последним пророком, покажет будущее, которое он так неверно предсказывал.
Но он уверенно предсказывал будущее, и в этом смысле исполнял функцию пророка. Был ли он последним пророком, покажет будущее, которое он так неверно предсказывал. Это был тоже тайный союз, и состоял он тоже из простых тружеников. Замысел Маркса тоже состоял в коренном улучшении человеческого общества, и он, так же как Христос, вызывал ироническое отношение высших классов: немецкое выражение Weltverbesserer [Улучшатель мира] представляет презрительное прозвище вроде тех, какие, вероятно, давали Христу раввины. Маркс, потомок раввинов, не считал себя верующим, и в самом деле не верил в бога, но он подсознательно ввёл в свою философию «первородный грех» и «избранный народ», переделав их в соответствии с духом его времени. Первородным грехом стал для Маркса «капитал» — не просто «деньги», а прибыль от наёмного труда, то есть «эксплуатация человека человеком». Отсюда ясно, почему Маркс так торжествовал, когда открыл «прибавочную стоимость»: к этой конструкции его подталкивала подсознательная психическая установка. «Избранным народом» стал для Маркса класс людей, свободных от этого «первородного греха» — пролетариат. Естественно, Маркс хотел построить, с этим избранным народом, своё «тысячелетнее царство» — коммунизм. Главной эмоцией верующих марксистов было ощущение нечистоты имущих и чистоты неимущих. В их рел игии предполагалось, что можно освободить людей от первородного греха корысти уже на этом свете; Гейне сказал об этом знаменитыми стихами: Wir wollen hier, auf Erde schon Das Himmelreich errichten [Мы хотим уже здесь, на земле/Устроить небесное царство]. Это было написано в пору наибольшей близости поэта к молодому Марксу.
Это был тоже тайный союз, и состоял он тоже из простых тружеников. Замысел Маркса тоже состоял в коренном улучшении человеческого общества, и он, так же как Христос, вызывал ироническое отношение высших классов: немецкое выражение Weltverbesserer [Улучшатель мира] представляет презрительное прозвище вроде тех, какие, вероятно, давали Христу раввины. Маркс, потомок раввинов, не считал себя верующим, и в самом деле не верил в бога, но он подсознательно ввёл в свою философию «первородный грех» и «избранный народ», переделав их в соответствии с духом его времени. Первородным грехом стал для Маркса «капитал» — не просто «деньги», а прибыль от наёмного труда, то есть «эксплуатация человека человеком». Отсюда ясно, почему Маркс так торжествовал, когда открыл «прибавочную стоимость»: к этой конструкции его подталкивала подсознательная психическая установка. «Избранным народом» стал для Маркса класс людей, свободных от этого «первородного греха» — пролетариат. Естественно, Маркс хотел построить, с этим избранным народом, своё «тысячелетнее царство» — коммунизм. Главной эмоцией верующих марксистов было ощущение нечистоты имущих и чистоты неимущих. В их рел игии предполагалось, что можно освободить людей от первородного греха корысти уже на этом свете; Гейне сказал об этом знаменитыми стихами: Wir wollen hier, auf Erde schon Das Himmelreich errichten [Мы хотим уже здесь, на земле/Устроить небесное царство]. Это было написано в пору наибольшей близости поэта к молодому Марксу.