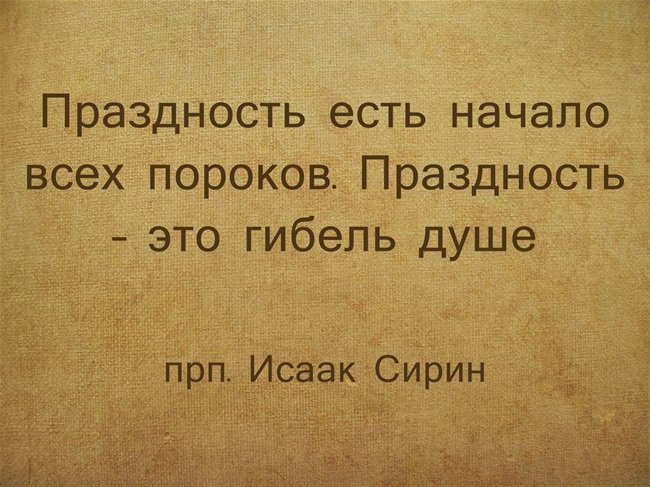Праздность что это такое: ПРАЗДНОСТЬ | это… Что такое ПРАЗДНОСТЬ?
Содержание
Между праздностью и празднословием | Правмир
Как связаны между собой праздность, уныние, любоначалие и празднословие? Над молитвой преподобного Ефрема Сирина продолжает размышлять протоиерей Игорь Прекуп.
Единый дух у праздности и уныния, любоначалия и празднословия — единый, хотя и кажется это странным: что касается праздности и уныния — еще куда ни шло, ну празднословие, ладно, допустим, но при чем тут любоначалие?
Во-первых, стоит обратить внимание на то, что уныние — явление отнюдь не «плоскостное». Его не следует сводить к подавленности, бессилию, точно так же, как и праздность — к лени. Это явление объемное и многоаспектное, скажем так. Сводить уныние к депрессии — по меньшей мере, поверхностно. Не говоря уже о том, что отождествление тех или иных духовных состояний с похожими, пусть даже с общей в чем-то этиологией, явлениями психического плана — некорректно.
И дело не в том лишь, что смешивать разные дискурсы — моветон. Это разные области исследования: связанные, да, но разные, поскольку психика и душа — не одно и то же, подобно тому как тело человека и одежда на нем, хотя и влияют одно на другое — температура тела прогревает одежду, одежда удерживает тепло; состав ткани влияет на телесное самочувствие (поносите-ка свитер из неочищенной шерсти), а тело своими особенностями конструкции, движений влияет на состояние одежды (где-то образуются «пузыри», в определенных местах швы расползаются, обувь стаптывается характерным образом) — тем не менее, не отождествляются (хотя «по одежке встречают», а она, в самом деле, зачастую много говорит о личности, и наоборот, отношение к человеку непроизвольно переносится на его одежду, а части одежды святых чуть ли не наряду с их мощами издревле почитаются как носители благодати Духа Святого (Деян. 19; 12)).
19; 12)).
Поэтому, когда приходится читать или слышать, что «депрессия — это уныние», возникает желание поставить кол и отправить на пересдачу. Депрессия лечится медикаментозно, уныние — нет, потому что это — страсть, явление душевного порядка, химией тут не поможешь.
Уныние охватывает человека по его малодушию: при виде трудностей у него опускаются руки, он не видит смысла ни в сопротивлении противникам, ни в попытке преодолеть обстоятельства: от него ничего не зависит, все уже предрешено…
Доходит до совершенно анекдотических ситуаций. Мой родственник, нейрохирург, рассказывал об одном ассистенте, что всякий раз, когда во время операции случалась какая-нибудь не то, чтобы даже экстремальная ситуация, а просто требующая принятия энергичных мер, например, кровотечение открылось, так тот буквально опускал руки и отходил от стола со словами: «Ну, вот и все… вот и все…» Хирург ему: «Зажим! Иначе, в самом деле „все“ будет!» — а тот себе в прострации пребывает и повторяет как мантру: «Вот и все…».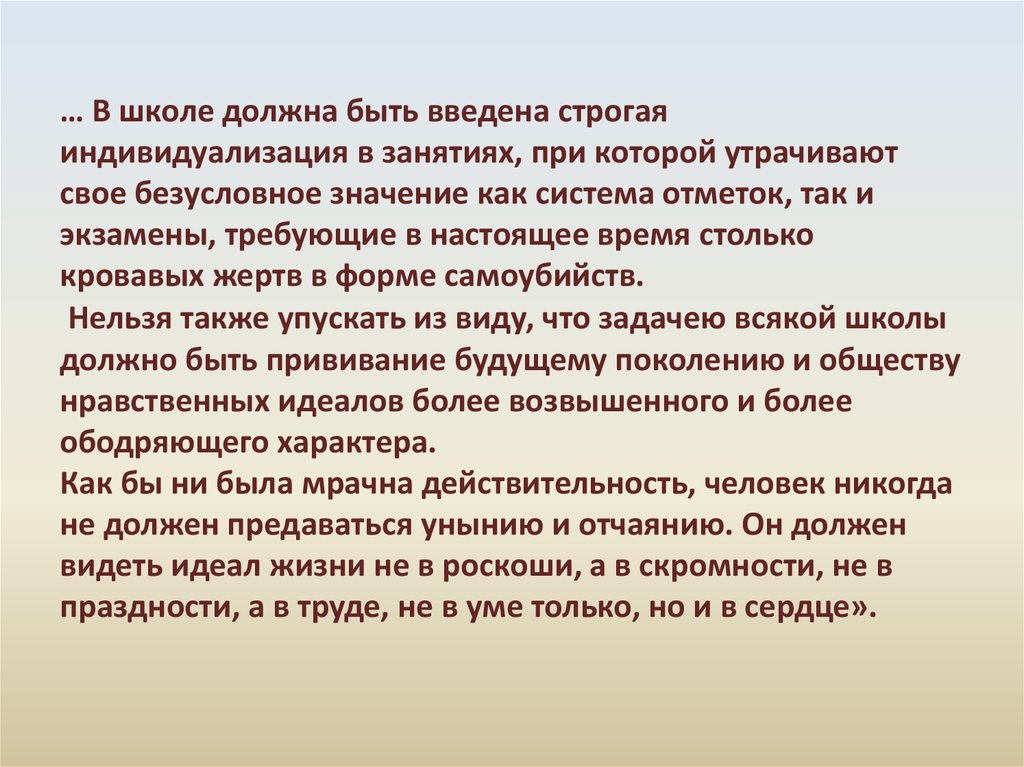
Комично, да. Идиотизм всегда комичен. Можно, конечно, отмахнуться, трус, дескать. Трус-то он трус, но не в этом только дело. Страх дает импульс, а вот что этот импульс в человеке активизирует? В данном случае можно констатировать, что с тем горе-ассистентом происходил приступ уныния: все кончено, предпринимать что-либо бесполезно, бессмысленно. Это именно уныние, а не отчаяние — тут нечего чаять: есть ситуация конкретная в настоящем, а сил ее решить нет. И нет их потому, что человек позволил себе впасть в уныние, позволил страсти овладеть собой (уныние влечет за собой отчаяние, но это особый разговор). А позволил — тут тебе и праздность, и парализующая лень…
Свт. Иоанн Златоуст уподобляет уныние «смертоносному червю», который касается не только плоти, но и самой души, «оно — моль, поедающая не только кости, но и разум, постоянный палач, не ребра рассекающий, но разрушающий даже и силу души, непрерывная ночь, беспросветный мрак, буря, ураган, тайный жар, сожигающий сильнее всякого пламени, война без перемирия, болезнь, затемняющая многое из воспринимаемого зрением». Он же объясняет, что душа, будучи «объята облаком уныния», неспособна «ни спокойно выслушать что-либо полезное, ни сказать», и что очень важно: в этом состоянии она «скоро задыхается, если у нее нет руки, которая бы поддержала ее».
Он же объясняет, что душа, будучи «объята облаком уныния», неспособна «ни спокойно выслушать что-либо полезное, ни сказать», и что очень важно: в этом состоянии она «скоро задыхается, если у нее нет руки, которая бы поддержала ее».
О том же говорит и прп. Нил Синайский: «…Душа, когда отовсюду окружило ее уныние, скоро бывает подавлена, если не найдет, кто простер бы к ней руку, и утешил ее». А каково это — «протягивать руку» тому, кто не расположен «спокойно выслушивать»?
И, тем не менее, никаких нет оправданий нам, типа «сам виноват», «что я могу сделать, если человек сам себе помочь не хочет», «а он меня о помощи не просил» (не звал, не приглашал, не жаловался). В состоянии уныния такого «пассивного» типа, располагающего к глухой замкнутости, человек вряд ли попросит о помощи. У него даже и на это сил нет. Все блокировано внутренне. Это как раз тот самый случай, когда не надо (якобы смиренно) ждать, пока позовут на помощь или обратятся за советом.
Впрочем, говоря, что уныние — причина праздности и лени, не будем забывать, что у этих пороков есть не только «пассивная», но и «активная» форма. «Уныние, — пишет прп. Иоанн Лествичник, — подущает к странноприимству; увещевает подавать милостыню от рукоделия; усердно побуждает посещать больных… увещевает посещать скорбящих и малодушествующих; и, будучи само малодушно, внушает утешать малодушных»…
«Уныние, — пишет прп. Иоанн Лествичник, — подущает к странноприимству; увещевает подавать милостыню от рукоделия; усердно побуждает посещать больных… увещевает посещать скорбящих и малодушествующих; и, будучи само малодушно, внушает утешать малодушных»…
Ах, какая «золотая жила» эти слова для тех, кто, оправдывая свой эгоизм, ставит под сомнение доброкачественность милосердия своих ближних, качество их отзывчивости, щедрости, гостеприимства, и собирает аргументы против укоров своей совести! Как удобно, ссылаясь на прп. Иоанна, опорочить чьи-то искренние порывы, чтобы раз и навсегда успокоиться насчет своего лицемерия!
Спешу разочаровать: св. Иоанн Лествичник, перечисляя признаки «активной» формы уныния, ведет речь о тех людях, которые сами по себе не горят ни странноприимством, ни милосердием, но усердствуют во всем этом, чтобы отвлечься даже не столько от самой страсти уныния, сколько от той тоски, которую оно производит в душе; заботятся о дальних, уклоняясь от заботы о ближних, в частности, о домашних, и от работы над внутренними проблемами, порождаемыми страстями, в том числе и унынием.
Кстати, о тоске. Сохранилось наставление прмц. Марии Гатчинской проф. И.М. Андреевскому, благодаря которому это наставление дошло до нас во всей точности, ясности и утонченности мысли. «Тоска, — сказала ему м. Мария, — есть крест духовный — посылается она в помощь кающимся, которые не умеют раскаиваться, то есть после покаяния снова впадают в прежние грехи… А потому — только два лекарства лечат это, порой крайне тяжкое, душевное страдание.
Надо или научиться раскаиваться и приносить плоды покаяния, или со смирением, кротостью и терпением и великой благодарностью Господу нести этот крест духовный, тоску свою, памятуя, что несение этого креста вменяется Господом за плод покаяния… А ведь какое это великое утешение — сознавать, что тоска твоя есть неосознанный плод покаяния, подсознательное самонаказание за отсутствие требуемых плодов. От мысли этой — в умиление прийти надо, и тогда тоска постепенно растает, и истинные плоды покаяния зачнутся…»
Уныние — страсть крайне тяжкая и опасная. Если подверженный ей человек не в состоянии «приходить в умиление» и нести этот крест со смирением и благодарностью Богу, то не грех будет или заняться таким делом, которое помогло бы преодолеть тоску, или в меру развлечься, лишь бы только не сломаться, не впасть в отчаяние. Поэтому, если налицо симптомы «активной» формы уныния, это не повод налетать на человека и начинать обличать его состояние, попутно разоблачая суетность его стремления к доброделанию.
Если подверженный ей человек не в состоянии «приходить в умиление» и нести этот крест со смирением и благодарностью Богу, то не грех будет или заняться таким делом, которое помогло бы преодолеть тоску, или в меру развлечься, лишь бы только не сломаться, не впасть в отчаяние. Поэтому, если налицо симптомы «активной» формы уныния, это не повод налетать на человека и начинать обличать его состояние, попутно разоблачая суетность его стремления к доброделанию.
Тем более, что естественное доброе стремление-то может быть искренним, и благодаря унынию оно просто высвободилось как бы под предлогом создания позитивного психологического фона, а тут мы со своими «духовными увещеваниями» раз! — и припечатаем, заклеймим как обманный маневр… Нет, все же тут многое сгодится, только бы не дать трясине уныния засосать болящего. Многое, да, но в меру, постепенно приходя к мысли о необходимости решать духовные проблемы духовными средствами.
Конечно, борясь с унынием, стоит помнить о точках опоры этой страсти, чтобы невольно их не подпитать и не создать еще более благоприятной почвы для нее. Поэтому уместно вспомнить предостережение прп. Иоанна Лествичника, что матерь уныния — тщеславие.
Поэтому уместно вспомнить предостережение прп. Иоанна Лествичника, что матерь уныния — тщеславие.
Вот вам и связка с любоначалием.
Это лишь на первый поверхностный взгляд у любоначалия ничего общего ни с унынием, ни с праздностью. Напротив, любоначалие — закономерное следствие праздности духовной: уход от работы над собой, от строительства своей души, от роста духовного — в рост карьерный, отвлечение от своего внутреннего ничтожества на значимость внешнюю. Любоначалие — это характерное для уныния проявление тщеславно самоутверждающейся активности (использование служебного или иерархического положения, в том числе и возрастного — властолюбие в масштабах семьи, например). С унынием через тщеславие у любоначалия связь очень прочная.
Однако подобно тому, как некорректно сводить праздность к лени, было бы неправильно сводить любоначалие к властолюбию. Причина несводима к своему следствию. Прот. Александр Шмеман, рассуждая о любоначалии, акцентирует наше внимание на сути этого явления: «Если Бог — не Господь и Владыка моей жизни, то я сам превращаюсь в своего господина и владыку (кредо секуляризма. — И.П.). Я становлюсь абсолютным центром моего собственного мира и рассматриваю все с точки зрения моих потребностей, моих мнений, моих желаний и моего суждения».
— И.П.). Я становлюсь абсолютным центром моего собственного мира и рассматриваю все с точки зрения моих потребностей, моих мнений, моих желаний и моего суждения».
Жажда первенствовать — страстная, всеобъемлющая, всепоглащающая, подчиняющая себе все прочие стремления и потребности, определяющая восприятие реальности, всего и вся — вот что такое любоначалие. Прп. Ефрем употребил слово φιλαρχία <филархия>; ἀρχή <архи> — начало, а отсюда уже значение возглавления, начальствования как правления, господства, но по сути это — первенство, которое может стремиться к власти, к господству, к подчинению своей воле кого-то или чего-то (от себе подобных до природных стихий), а может и не преследовать этих целей, довольствуясь упоительным сознанием достигнутого первенства («Я ль на свете всех милее, / Всех румяней и белее?»).
Любоначалие, не интересующееся управлением, не стремящееся властвовать, это отнюдь не безобидное явление на уровне мелкого самолюбия (и Пушкин это убедительно показал на примере злой мачехи). Стремление первенствовать любой ценой вынудит осваивать искусство манипуляции, заставит предпринимать самоотверженные усилия, ради достижения своей цели, не гнушаясь устранением конкурентов. Зависть пока еще никто не отменял.
Стремление первенствовать любой ценой вынудит осваивать искусство манипуляции, заставит предпринимать самоотверженные усилия, ради достижения своей цели, не гнушаясь устранением конкурентов. Зависть пока еще никто не отменял.
Она, проклятая, побудила Денницу к богоборчеству, она же побудила его в злобе на Отца надругаться над Его образом, склонив человека к погибельному предательству, она же возбудила в Каине смертоносную ненависть к брату и стала причиной первого убийства. Опять же в Каине было «всего лишь» желание первенствовать, а не властвовать, но Господь призрел только «на Авеля и на дар его» (Быт. 4; 4)… на Авеля, ставшего прообразом Христа, Которого тоже убили из зависти.
Н.О. Лосский, рассуждая о типах зла, делит все так называемые «отрицательные ценности» на две категории: зло сатанинское и зло как порождение земного эгоизма. Последнее выражается не в любви к злу как таковому, а в предпочтительном интересе к себе в смысле сосредоточенности на своих переживаниях и невнимания к чужой жизни, отсутствия интереса к ней, тогда как «сатанинское зло есть гордыня деятеля, не терпящего превосходства Бога и других деятелей над собою, стремящегося поставить себя на место Бога и занять исключительное положение в мире, выше остальных тварей».
Земной эгоизм толкает порой на страшные преступления, но злодей при этом как бы и сам не рад, он бы предпочел никому не причинять зла и ничему не наносить ущерб, ради получения тех или иных благ, да вот… не видит другого пути, ему не нравится само по себе средство, которым он достигает своей цели, он не радуется горю тех, кто из-за него страдает (хотя мало-помалу может войти во вкус) — он просто «борется за место под солнцем в виде гаража».
Иное дело — зло сатанинское: его стержень — стремление к первенству ради первенства: властвовать, чтобы переживать свое господство, наслаждаться им, состязаться в споре не для того, чтобы установить истину, но чтобы вынудить противника и аудиторию признать свою правоту, и если не доказать, так навязать ее! Любоначалие порождает властолюбие и побуждает любить власть как средство упиваться своим первенством, своим господствующим положением.
Любоначалие, коренящееся в порочной праздности духа и питаемое тщеславием, порождающим уныние, неизбежно выражается в празднословии (αργολογία <аргология>). О чем, однако, лучше побеседовать, если Бог даст, в другой раз.
О чем, однако, лучше побеседовать, если Бог даст, в другой раз.
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
Значение слов — сборник словарей на Glosum.ru
Значение слов — сборник словарей на Glosum.ru
- Главная
- Контакты
- Добавить
слово
Возможно, запрашиваемая Вами страница была перенесена или удалена. Также возможно, Вы допустили
небольшую опечатку при вводе адреса – такое случается, поэтому еще раз внимательно проверьте.
Вы можете продолжить перейдя на главную страницу
- Популярное за все время
- Любовь
- Родина
- Обожать
- Вертеп
- Дружба
- Мужик
- Красота
- Надежда
- Искусство
- Панталык
- Стерва
- Паскуда
- Мир
- Тварь
- Дурак
- за месяц
- Член
- Краля
- Богатый
- Урод
- Бобыль
- Халда
- При
- Справедливость
- Привет
- Жрать
- Лукавый
- Рдеть
- Определение
- Человек
- Язык
- за неделю
- Пелена
- Безалаберный
- Жупел
- Мазурик
- Коллега
- Нравственность
- Ратовать
- Волонтер
- Информация
- Богатырь
- Неистовый
- Друг
- Организация
- Кумир
- Легенда
- за день
- Ублюдок
- Оный
- Юродивый
- Яр
- Дебелый
- История
- Гордость
- Показать
- Басурман
- Тать
- Романтик
- Вовсе
- Царь
- Честь
- Оказия
Важное
- Политика
конфиденциальности - Пользовательское
Соглашение
Наши соц. сети
сети
- Телеграм канал
- Телеграм бот
© 2012–2022
Праздность: Философский очерк | Отзывы | Нотр-Дам Philosophical Reviews
Книга Брайана О’Коннора напоминает историю человека, который, когда его спросили: «Что ты делаешь?» ответил как ни в чем не бывало: «Как можно меньше». Эта история представляет собой не только философское противоядие от удивительно единой позиции мыслителей Просвещения и пост-Просвещения против праздности, изложенной О’Коннером, но и форму политического сопротивления мандату на работу при капитализме и отказ от соответствующей идеологии. работы. Он убедительно демонстрирует потенциал «праздности как свободы» с философской точки зрения, разрушая аргументы против праздности посредством впечатляющего анализа философов, избранных от немецкого идеализма до критической социальной теории. Как объясняет О’Коннор, его процессом отбора руководили философы, чьи взгляды на борьбу с праздностью сегодня воспринимаются как здравый смысл. По его оценке, праздность исторически и философски приносилась в жертву отстаиванию ценностей, приоритетных для Просвещения, таких как рациональность, самоопределение, зрелость и прогресс (2). Кроме того, он утверждает, что материал против безделья приносит больше вреда, чем пользы, исключая потенциал безделья как оппозиционной формы свободы, которая, как он утверждает, в противном случае испорчена телеологическими утверждениями, связанными с тем, что делает нас наиболее реализованными в нашей человечности.
Как объясняет О’Коннор, его процессом отбора руководили философы, чьи взгляды на борьбу с праздностью сегодня воспринимаются как здравый смысл. По его оценке, праздность исторически и философски приносилась в жертву отстаиванию ценностей, приоритетных для Просвещения, таких как рациональность, самоопределение, зрелость и прогресс (2). Кроме того, он утверждает, что материал против безделья приносит больше вреда, чем пользы, исключая потенциал безделья как оппозиционной формы свободы, которая, как он утверждает, в противном случае испорчена телеологическими утверждениями, связанными с тем, что делает нас наиболее реализованными в нашей человечности.
При этом О’Коннор уделяет гораздо меньше внимания предварительным условиям, которые могут сделать праздность возможной свободой. Хотя его опровержение того, что он называет «материалом против праздности», необходимо, чтобы противостоять здравому смыслу борьбы с праздностью в пользу более продуктивных ценностей Просвещения, таких как рациональность, этого недостаточно, поскольку оно не касается реальности структурное неравенство при капитализме, которое больше всего определяет, кто может позволить себе безделье, а кто вынужден бездействовать (4). Далее, может ли определение праздности с помощью соображений противоположных ей философов дать достаточно образное понимание того, чем потенциально может быть праздность или «праздность как свобода»? В конце концов, О’Коннор признает: «Эта книга… написана главным образом посредством критики и без пропаганды праздной жизни», имея в виду, что он не будет выступать за то, чтобы люди принимали праздность как альтернативное понимание того, что значит быть свободным ( 2). В качестве оправдания такого поведения он упоминает об общем социальном «амбивалентном отношении к праздности», которое, как он утверждает, «составляет большую часть того, чем многие из нас считают себя», имея в виду, что люди либо были так внушены, либо, что более вероятно, усвоили продуктивных ценностей Просвещения, что они остаются двойственными в отношении того, хотят ли они вообще бездельничать (2). Важно отметить, что это двойственное отношение, которое О’Коннор, похоже, не разделяет. В качестве альтернативы он предлагает «безделье как свободу» в дополнение к более широким философским утверждениям, связанным с самоопределением, которые включают «занятость, самодостаточность, полезность и производительность» как связанные с обязанностями труда как источником ценности и социальной жизни.
Далее, может ли определение праздности с помощью соображений противоположных ей философов дать достаточно образное понимание того, чем потенциально может быть праздность или «праздность как свобода»? В конце концов, О’Коннор признает: «Эта книга… написана главным образом посредством критики и без пропаганды праздной жизни», имея в виду, что он не будет выступать за то, чтобы люди принимали праздность как альтернативное понимание того, что значит быть свободным ( 2). В качестве оправдания такого поведения он упоминает об общем социальном «амбивалентном отношении к праздности», которое, как он утверждает, «составляет большую часть того, чем многие из нас считают себя», имея в виду, что люди либо были так внушены, либо, что более вероятно, усвоили продуктивных ценностей Просвещения, что они остаются двойственными в отношении того, хотят ли они вообще бездельничать (2). Важно отметить, что это двойственное отношение, которое О’Коннор, похоже, не разделяет. В качестве альтернативы он предлагает «безделье как свободу» в дополнение к более широким философским утверждениям, связанным с самоопределением, которые включают «занятость, самодостаточность, полезность и производительность» как связанные с обязанностями труда как источником ценности и социальной жизни. уважение (3).
уважение (3).
В начале книги О’Коннор исследует идеи о том, что такое праздность, а что нет. В первую очередь он определяет праздность как деятельность, не имеющую конкретной цели, и работает взаимозаменяемо между тем, чем праздность не является, к тому, чем может быть праздность. Однако, как он заявляет: «Однако это не работа по генеалогии. В центре внимания анализа здесь находится особый способ, которым праздность проявляется в философии в то, что широко называется современной эпохой» (9), определяемой «индивидуальными свобода, гражданское общество, демократия, капитализм и разум» (9).). Праздность определяется как антитеза фигуре Прометея. Цитируя персонажа Фридриха Шлегеля Юлия из романа Люсинда (1799 г.), О’Коннор пишет:
Прометей идентифицируется как «изобретатель образования и просвещения», а также, по сути, проекта рационального плана жизни. : «Именно от него [Прометея] вы унаследовали свою неспособность оставаться на месте и свою потребность в постоянном стремлении. Именно по этой причине, когда вам абсолютно нечего делать, вы по глупости чувствуете себя вынужденным стремиться к личности. …» (15)
Именно по этой причине, когда вам абсолютно нечего делать, вы по глупости чувствуете себя вынужденным стремиться к личности. …» (15)
Возможно, более кратко О’Коннор предлагает Шлегелевское понятие праздности как тройственное:
(1) праздность бросает вызов трудолюбию, полезности, средствам и целям; (2) счастье понимается как пассивность, а не беспокойная деятельность; и (3) праздность уводит индивидуума от того, что в более поздней философии называется самоконституцией (задача превращения себя в целостных моральных существ). (16)
Безделье, однако, не лишено «концептуальных компонентов и суждений», то есть это не бездумная деятельность (6). Как утверждает О’Коннор, «бездельничая, мы знаем, что делаем, даже если у нас нет представления об общей цели или цели того, что мы делаем» (6). В своей простоте праздность становится потенциальной формой освобождения от всех обязанностей себя и других, наложенных на то, что значит быть человеком, будь то посредством философии или капитализма.
Вторая половина книги дает более конкретное и потенциально плодотворное понимание праздности, рассматривая игру как праздность через Герберта Маркузе и праздность как свободу как собственный особый вклад О’Коннора. О’Коннор утверждает, что игра сродни праздности в ее спонтанности и свободе от обязанностей бытия: «Вопрос, который следует здесь исследовать, заключается в том, может ли игра, как предполагал ряд философов, дать нам правдоподобную картину человеческого действия, которое свободен от требований серьезности, полезности и озабоченности собой» (137). Далее, он определяет основную характеристику праздности как «свободу от норм, которые делают нас эффективными современными социальными существами»9.0007
Безделье никогда не руководствуется каким-либо конкретным представлением о результате или о «я», которое должно быть реализовано. Праздные действия — это спонтанные выражения того, что люди предпочитают делать, действуя в выбранном ими контексте. Наиболее существенно то, что праздность контрастирует с теми потенциально обреченными на провал концепциями жизни, которые связывают свободу с самоактуализацией в рамках институтов, управляемых правилами». проблема может заключаться в тех самых философах, которых выбрал О’Коннор, которые могут невольно заманить его в ловушку самой своей логики, так что его воображение ограничивается определением праздности теми, кто больше всего ей противостоит. кажется, что мы все еще определяемся этой оппозицией, а не освобождаем праздность от ее негативных или ошибочных коннотаций.0007
проблема может заключаться в тех самых философах, которых выбрал О’Коннор, которые могут невольно заманить его в ловушку самой своей логики, так что его воображение ограничивается определением праздности теми, кто больше всего ей противостоит. кажется, что мы все еще определяемся этой оппозицией, а не освобождаем праздность от ее негативных или ошибочных коннотаций.0007
На протяжении всей книги, но особенно в заключении, мы слышим рефрен о праздности, определяемой прежде всего как «свобода от», которую большинство философов и политических теоретиков немедленно отождествляют с понятиями негативной свободы или свободы от внешнего вмешательства. Действительно, О’Коннор в первую очередь определяет праздность как свободу от внешних ограничений, установленных философией и требованиями работы и карьеры, но он также включает серьезное рассмотрение внутренних ограничений или тех ценностей, которые мы бессознательно усвоили как свои собственные с психологической точки зрения. что больше похоже на позитивную свободу или «свободу» развиваться. Здесь для О’Коннора остается дилемма, поскольку в игру вступают более жесткие требования автономии или самоуправления. Кант рассуждает примерно так: я наиболее свободен, когда даю себе закон, которому затем подчиняюсь. Но О’Коннор хочет сохранить автономию, основанную на опыте праздности, без жесткости, которую он определяет в более требовательных формах автономии. Здесь О’Коннор обязательно должен углубиться в соотношение между необходимостью и свободой, но эти понятия остаются на абстрактном уровне.
Здесь для О’Коннора остается дилемма, поскольку в игру вступают более жесткие требования автономии или самоуправления. Кант рассуждает примерно так: я наиболее свободен, когда даю себе закон, которому затем подчиняюсь. Но О’Коннор хочет сохранить автономию, основанную на опыте праздности, без жесткости, которую он определяет в более требовательных формах автономии. Здесь О’Коннор обязательно должен углубиться в соотношение между необходимостью и свободой, но эти понятия остаются на абстрактном уровне.
В то время как О’Коннор проводит необходимые различия между праздностью и соответствующими категориями досуга и лени, он, к сожалению, приравнивает досуг к его наиболее инструментальному определению в служении просветительскому проекту самосовершенствования, который сегодня сверхопределен условиями жизни. существующий капиталистический режим и соответствующая идеология труда (7). Например, он, кажется, ограничивает свое предварительное рассмотрение досуга тем, что позволяет людям быть еще более продуктивными, когда они возвращаются к работе. По этой причине я по-прежнему скептически отношусь к утверждению О’Коннора о том, что праздность более радикальна, чем досуг, поскольку она «угрожает подорвать то, что требует эта модель, а именно дисциплинированные, целеустремленные личности» (8). Досуг, понимаемый должным образом (см. аристотелевско-марксистскую традицию), во многом выполняет ту же работу, которую О’Коннор хочет сделать от праздности,[1] но он прав, поскольку отмечает, что классическое понимание досуга как школа , или «досуг», проводимый с добродетелью и ради добродетели» (15), по-прежнему сохраняет руководящую цель, от которой, как утверждает О’Коннор, ускользает праздность. Любопытно, что в своем различии между праздностью и ленью, которое, как он находит, имеет гораздо больше общего, О’Коннер не ссылается на книгу Поля Лафарга «О праве быть ленивым» (1883 г.), что весьма прискорбно, учитывая, что он нашел бы сильный защитник праздности как свободы в зяте Маркса и, несомненно, был представлен длинному списку современных политических теоретиков, чьи работы по антиработе и политике после работы во многом совпадают с его идеями, касающимися праздности как свободы.
По этой причине я по-прежнему скептически отношусь к утверждению О’Коннора о том, что праздность более радикальна, чем досуг, поскольку она «угрожает подорвать то, что требует эта модель, а именно дисциплинированные, целеустремленные личности» (8). Досуг, понимаемый должным образом (см. аристотелевско-марксистскую традицию), во многом выполняет ту же работу, которую О’Коннор хочет сделать от праздности,[1] но он прав, поскольку отмечает, что классическое понимание досуга как школа , или «досуг», проводимый с добродетелью и ради добродетели» (15), по-прежнему сохраняет руководящую цель, от которой, как утверждает О’Коннор, ускользает праздность. Любопытно, что в своем различии между праздностью и ленью, которое, как он находит, имеет гораздо больше общего, О’Коннер не ссылается на книгу Поля Лафарга «О праве быть ленивым» (1883 г.), что весьма прискорбно, учитывая, что он нашел бы сильный защитник праздности как свободы в зяте Маркса и, несомненно, был представлен длинному списку современных политических теоретиков, чьи работы по антиработе и политике после работы во многом совпадают с его идеями, касающимися праздности как свободы. [ 2]
[ 2]
Хотя О’Коннор утверждает, что безделье — это «не только состояние бездействия», он утверждает, что это «один из ключевых маркеров» его определения (5). В главе 2 он предлагает анализ соответствующих аргументов Гегеля и Маркса против праздности в пользу спасения труда от отчуждения и отчуждения и в пользу его высшей цели, связанной со свободой и общественностью. Тем не менее, О’Коннер, кажется, недооценивает определяющую роль капитализма в определении ценностей, которые он перечисляет как восходящие к эпохе Просвещения. Здесь более глубокий анализ капитализма и идеологии труда с помощью Андре Горца и Кэти Уикс сделал бы конкретнее многое из того, что он описывает в абстракции. Капитализм — это система, которая нуждается в философском обосновании, и эти философы намеренно или нет предоставляют его в своей риторике против праздности. Может ли это противодействие праздности и капитализму быть похоже на избирательное сродство, описанное Максом Вебером как отношение между протестантизмом и капитализмом? В целом теория власти и неравных отношений власти, по-видимому, отсутствует в анализе О’Коннора, за исключением его рассуждений о праздности аристократии, которую он определяет как «свободу от труда и безразличия к достижениям, подкрепляемую непоколебимой самоотверженностью». -вера» (171).
-вера» (171).
Книга О’Коннора, кажется, иллюстрирует саму праздность как свободу, которую он описывает, поскольку он неоднократно заявляет, что не защищает праздность. В сноске он пишет: «Я сочувствую отклонению идеи о том, что критика должна быть конструктивной по дополнительной причине, изложенной [Раймондом] Гойсом, а именно потому, что она заставляет критика молчать» (187). Каким бы верным или ложным ни было это утверждение, О’Коннор снимает с себя бремя конструктивного отстаивания праздности как свободы, рассматривая предпосылки, которые могли бы сделать праздность как свободу возможной для всех. Возможно, он просто хочет начать с того, что предлагает людям способ противостоять антипраздности: «Тактика состоит в том, чтобы показать, что праздность в некоторых отношениях более успешно удовлетворяет самим критериям того, что значит быть свободным, чем обычные моральные позиции. которые претендуют на эти критерии» (171). Тем не менее праздность как свобода касается не только идей и индивидуального выбора. Праздность определяется структурными и идеологическими требованиями капитализма, которым мы все подчиняемся, и лишь немногие из нас освобождаются от него. Если праздность как свободу следует воспринимать всерьез, она также должна включать в себя вдумчивое исследование отношений между свободой и равенством или неравенством.
Праздность определяется структурными и идеологическими требованиями капитализма, которым мы все подчиняемся, и лишь немногие из нас освобождаются от него. Если праздность как свободу следует воспринимать всерьез, она также должна включать в себя вдумчивое исследование отношений между свободой и равенством или неравенством.
[1] См. мой собственный вклад в теоретизирование досуга как регулирующего идеала антикапиталистической политики в Decolonizing Time: Work, Leisure and Freedom (Palgrave 2014).
[2] См. Kathi Weeks, The Problem with Work Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries (Duke 2011).
Процветание безделья — Публичные книги
Написать книгу — тяжелая работа, поэтому в написании тома о ценности безделья есть неизбежная ирония. Есть и парадокс: восхвалять праздность — значит внушать, что в ней есть какой-то смысл, что трата времени — не трата времени. Парадокс вселяет опыт бездействия. Восторженное расслабление бывает трудно отличить от меланхолии. Когда учебный год подходит к концу, я оказываюсь растянувшимся на диване, пересматривая старые эпизоды британских комедийных шоу по кругу. Я не могу сказать, то ли я в депрессии, то ли отдыхаю. Как писал Сэмюэл Джонсон: «Каждый человек является или надеется стать бездельником». 1 Как он также писал: «В праздности есть… несчастья, которые может помыслить только Бездельник». 2
Восторженное расслабление бывает трудно отличить от меланхолии. Когда учебный год подходит к концу, я оказываюсь растянувшимся на диване, пересматривая старые эпизоды британских комедийных шоу по кругу. Я не могу сказать, то ли я в депрессии, то ли отдыхаю. Как писал Сэмюэл Джонсон: «Каждый человек является или надеется стать бездельником». 1 Как он также писал: «В праздности есть… несчастья, которые может помыслить только Бездельник». 2
В этом году появились три новые книги, восхваляющие трату времени: манифест профессора Массачусетского технологического института Алана Лайтмана; критическая история философа Брайана О’Коннора; и мемуары эссеистки Патрисии Хэмпл. Каждый автор находит способ писать в духе безделья. Тем не менее ни один из них полностью не устраняет наше двойное видение. Даже когда они обращают внимание на его ценность, они никогда не стряхивают тень стыда за безделье.
Почему сейчас безделье? Потому что мы слишком заняты, слишком безумны; из-за ощутимого ускорения времени.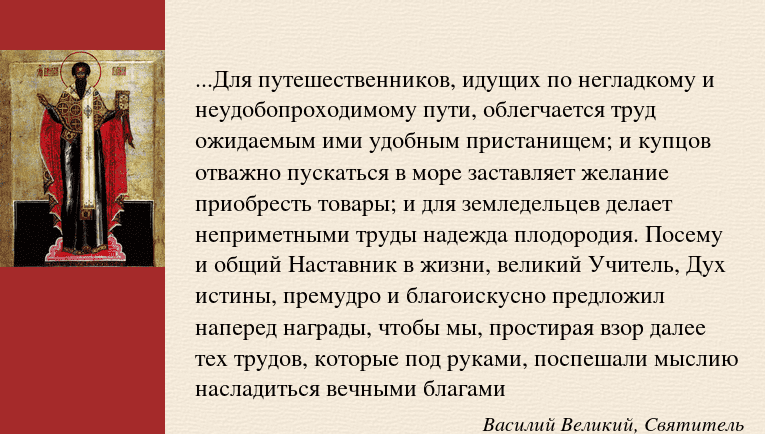 Лайтман предлагает меру. «На протяжении всей истории, — пишет он, — темп жизни всегда подпитывался скоростью общения».
Лайтман предлагает меру. «На протяжении всей истории, — пишет он, — темп жизни всегда подпитывался скоростью общения».
Когда в девятнадцатом веке был изобретен телеграф, информация могла передаваться со скоростью примерно четыре бита в секунду. К 1985 году, на заре общедоступного Интернета, скорость составляла около тысячи бит в секунду. Сегодня скорость составляет около одного миллиарда бит в секунду.
В принципе, мы доступны в любом месте и в любое время; нам могут отправлять текстовые сообщения, электронные письма, теги: «Сегодняшний мир быстрее, более запланированный, более фрагментированный, менее терпеливый, более громкий, более запутанный, более публичный». Не хватает времени простоя. Так рассуждает Лайтман в своем живом, убедительном эссе. Его снимки соответствующих социальных наук изображают мрачные последствия чрезмерной связи в наш цифровой век: молодые люди более подвержены стрессу, более склонны к депрессии, менее креативны, более одиноки, но никогда по-настоящему не одиноки. Наше время безжалостно разбито на эффективные единицы. Скорость ходьбы пешеходов в 32 городах увеличилась на 10 процентов с 19.95 to 2005.
Наше время безжалостно разбито на эффективные единицы. Скорость ходьбы пешеходов в 32 городах увеличилась на 10 процентов с 19.95 to 2005.
Благодаря коротким главам и ярким иллюстрациям книга Лайтмана сама по себе хорошо разработана для дефицита внимания в эпоху Интернета, идеально подходит для постграмотного подростка или занятого руководителя, у которого есть всего час свободного времени. Это элегантный случай простоя: неструктурированный и не отвлекающий, время для экспериментов и самоанализа. Для Лайтмана это такая трата времени, которая не является пустой тратой времени. Это увеличивает креативность, которая опирается на ненаправленное или «дивергентное» мышление. Он наполняет и восстанавливает нас. И это дает нам пространство, в котором мы можем найти себя.
Определение Лайтманом «траты времени» как ненаправленного самоанализа намеренно тенденциозно. Эта фраза с таким же успехом могла бы описать любителя смартфонов, играющего в Angry Birds. По иронии судьбы, одно из самых интригующих исследований в книге Лайтмана касается положительного влияния тривиальных игр. На просьбу придумать новые бизнес-идеи люди, которые были вынуждены откладывать на несколько минут игру «Сапёр» или «Пасьянс», были «заметно более креативными». Лайтман не останавливается, чтобы спросить, можно ли увеличить этот эффект. (В аспирантуре я сам довольно далеко продвинулся в этом, но результаты были неоднозначными.) Но он предлагает наводящий на размышления список художников и ученых, чьи лучшие идеи пришли к ним, когда они смотрели в стену.
На просьбу придумать новые бизнес-идеи люди, которые были вынуждены откладывать на несколько минут игру «Сапёр» или «Пасьянс», были «заметно более креативными». Лайтман не останавливается, чтобы спросить, можно ли увеличить этот эффект. (В аспирантуре я сам довольно далеко продвинулся в этом, но результаты были неоднозначными.) Но он предлагает наводящий на размышления список художников и ученых, чьи лучшие идеи пришли к ним, когда они смотрели в стену.
Безделье — еще один способ процветания, по сравнению с которым соблазн стремления и успеха должен казаться в лучшем случае выбором образа жизни.
Лайтман заканчивает конкретными практическими рекомендациями: 10-минутное молчание в школьные дни, «интроспективные» курсы в колледже, которые дают учащимся больше времени для размышлений, комнаты без электроники на работе, часы без электричества дома. Изменения не радикальны и не затрагивают медиаэкологию, в которой нам предстоит жить. «В силах каждого из нас как личности, — пишет Лайтман, — внести изменения в свой образ жизни, чтобы восстановить нашу внутреннюю жизнь. … Приложив немного решимости, каждый из нас может найти полчаса в день, чтобы тратить время попусту».
… Приложив немного решимости, каждый из нас может найти полчаса в день, чтобы тратить время попусту».
Возможно, скромность или реализм мешают Лайтману искать социальные средства для решения социальной проблемы. В краткосрочной перспективе, предлагает он, мы должны работать над собой: консервативная терапия того, что нас беспокоит. Извинения Лайтмана за трату времени консервативны и в других отношениях. Он прославляет не простои как таковые, а их инструментальную ценность, их полезность как средство достижения целостности и достижения. Лайтман цитирует психолога Абрахама Маслоу о двух формах творчества: той, которая включает в себя художественное бегство от стресса, и той, которая подпитывает «самореализацию», желание стать лучше, чем мы можем быть». Лайтману, 9 лет0007
существует своего рода необходимый гомеостаз разума: не статическое равновесие, а динамическое равновесие, в котором мы постоянно изучаем, тестируем и пополняем нашу психическую систему, постоянно закрепляя ментальную оболочку между собой и внешним миром, постоянно реорганизовать и утвердить себя.
Если это пустая трата времени, то у кого есть на это энергия?
Не Брайан О’Коннор, который делает более смелые и громкие заявления от имени бездействия. Безделье пренебрегает преобладающим общественным порядком и концепцией автономии как трудного самосовершенствования, которое разделяют Лайтман и Маслоу. О’Коннор прослеживает изнурительный проект самоконституции от Канта и Гегеля через Карла Маркса. То, что Лайтман изображает как конечную цель пустой траты времени, О’Коннор считает чуждым навязыванием, приказом, отданным без полномочий. Современная философия учит нас делать что-то из себя, но она не имеет права указывать нам, что делать, и ее указы присваиваются обществами, которые предъявляют непомерные требования к работе, связывают признание с материальным успехом и возвышают личность за счет настоящее сообщество. Для О’Коннора праздность — это равнодушие к продуктивному труду и социальному престижу; он отвергает потребность в руководящей цели или самообразовании. К общепризнанным преимуществам простоя он добавляет еще и ценность социальной критики.
К общепризнанным преимуществам простоя он добавляет еще и ценность социальной критики.
Несмотря на то, что книга О’Коннора имеет направляющую цель, она, тем не менее, остается верной духу безделья. По большей части О’Коннор довольствуется тем, что отвечает на доводы против праздности, выдвигаемые его философскими критиками, а не приводит доводы в пользу самой праздности. Бремя доказывания возлагается на противников безделья, которые должны работать над тем, чтобы убедить бездельника в его неправоте. Возражения бездельника достаточно лаконичны.
Главный антагонист О’Коннора — Кант, который утверждает, что мы должны делать каждый выбор так, как если бы мы издавали законы для всех, и что, следовательно, мы обязаны развивать свои таланты. Ученые могут подвергнуть сомнению интерпретацию Канта О’Коннором как опирающуюся на «то особое чувство достоинства», которое возникает из-за того, что он полезен обществу. Но даже если он ошибается в этом, О’Коннор прав, находя у Канта видение свободы как ответственности, автономии как работы: обескураживающий проект определения того, как быть.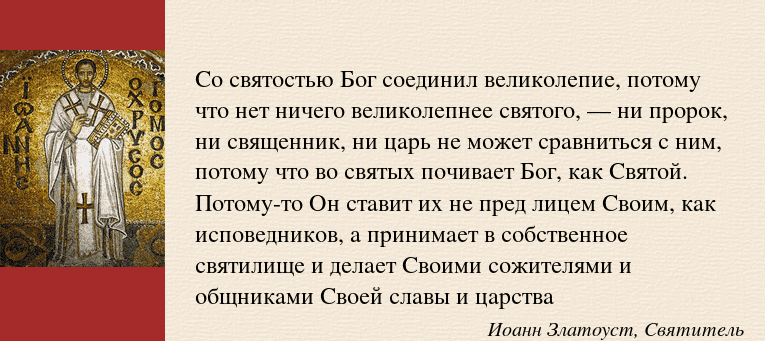 Для Канта свобода требует, чтобы человек жил по принципам, которые можно желать как законы для каждого разумного существа. Это суровое честолюбие нужно привносить во все, что ты делаешь; только тогда человек имеет право быть счастливым. «Это, — пишет О’Коннор, — глубокое теоретическое обоснование идеи, которая теперь стала общепринятой: жизнь, достойная жизни, отмечена усилиями и достижениями». Идея о том, что хорошая жизнь требует обременительного самосозидания, подпитывает призыв Ницше «стать тем, кто ты есть» и экзистенциализм Сартра.
Для Канта свобода требует, чтобы человек жил по принципам, которые можно желать как законы для каждого разумного существа. Это суровое честолюбие нужно привносить во все, что ты делаешь; только тогда человек имеет право быть счастливым. «Это, — пишет О’Коннор, — глубокое теоретическое обоснование идеи, которая теперь стала общепринятой: жизнь, достойная жизни, отмечена усилиями и достижениями». Идея о том, что хорошая жизнь требует обременительного самосозидания, подпитывает призыв Ницше «стать тем, кто ты есть» и экзистенциализм Сартра.
Маркс — более трудный клиент, поскольку его акцент на отчуждении труда при капитализме можно легко расценить как критику труда. По сути, это призыв к преобразованию работы в новые, аутентичные формы. Идея Маркса об отчуждении была развита Гербертом Маркузе, ближайшим интеллектуальным союзником О’Коннора. Для Маркузе отчуждение включает интернализацию целей, которые не имеют ничего общего с тем, чего мы действительно хотим. Чтобы функционировать, современное общество требует, чтобы его члены были отчуждены таким образом. Что О’Коннор находит подозрительным как у Маркса, так и у Маркузе, так это желание решить проблемы отчуждения, изменив природу труда, а не поставив его на место. Характеризуя условия труда при коммунизме, Маркс пишет: «То, что выступает как жертва покоя, может быть также названа жертвой праздности, несвободы, несчастья». Вместо этого Маркузе стремится к синтезу работы и развлечения.
Что О’Коннор находит подозрительным как у Маркса, так и у Маркузе, так это желание решить проблемы отчуждения, изменив природу труда, а не поставив его на место. Характеризуя условия труда при коммунизме, Маркс пишет: «То, что выступает как жертва покоя, может быть также названа жертвой праздности, несвободы, несчастья». Вместо этого Маркузе стремится к синтезу работы и развлечения.
О’Коннор не видит надежды совместить работу с отдыхом. Там, где Маркс хочет «охотиться утром, ловить рыбу днем, пасти скот вечером, критиковать после обеда», О’Коннор задается вопросом, почему он не может просто вздремнуть. 3 Работа нуждается в трансформации, но даже после ее трансформации она не должна быть нашей моделью смысла жизни и не может включать в себя ценность бездействия. Праздность — это свобода не только от отчужденного труда, но и от давления автономии и аутентичности. Это еще один способ процветания, на фоне которого соблазн стремления и успеха должен казаться в лучшем случае выбором образа жизни.
Отступление не является поражением. И если полностью уйти безответственно, в этом есть смысл.
Провокации О’Коннора упускают из виду, что для Канта и для Сартра ответственность за себя, которая определяет автономию, является в то же время ответственностью перед другими. Одно дело бездельничать, когда я могу развивать свои таланты; это не чья-то проблема, а моя собственная. Другое дело бездельничать перед лицом насущной нужды и, таким образом, быть равнодушным к страданию. Джон Бергер писал: «На этой земле нет счастья без стремления к справедливости». 4 Со времен Платона философы стремились показать, что это правда. Адекватная защита праздности должна была бы удовлетворить это стремление, смягчить вину бездельника. Может быть, я и не обязан напрягаться и бороться, но разве я не должен этого перед тобой?
По иронии судьбы, работа, которая самым непосредственным образом противостоит напряжению между праздностью и этической ответственностью, не является ни манифестом, ни монографией, а эссе в духе Монтеня.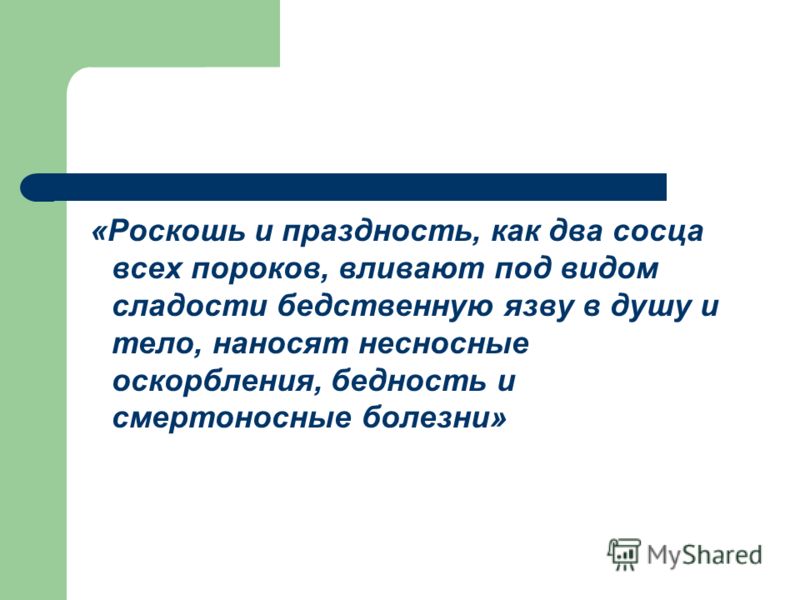 Как и Монтень, Патрисия Хэмпл размышляет о горе и пишет в разговоре с кем-то, кого она потеряла. Как и Монтень, она ставит описание выше повествования. И, как Монтень, она готова блуждать. Обрамленная паломничеством к башне Монтеня близ Бордо, книга Хэмпла не доходит до его поместья более двухсот страниц и останавливается в пункте назначения на небрежные восемь. По пути он посещает дома писателей, святых и ученых, которые предались праздности, удалившись от мира.
Как и Монтень, Патрисия Хэмпл размышляет о горе и пишет в разговоре с кем-то, кого она потеряла. Как и Монтень, она ставит описание выше повествования. И, как Монтень, она готова блуждать. Обрамленная паломничеством к башне Монтеня близ Бордо, книга Хэмпла не доходит до его поместья более двухсот страниц и останавливается в пункте назначения на небрежные восемь. По пути он посещает дома писателей, святых и ученых, которые предались праздности, удалившись от мира.
Наиболее памятными являются две англо-ирландские женщины, Сара Понсонби и леди Элеонора Батлер, которые безуспешно сбежали вместе, переодевшись мужчинами, в 1778 году. Вернувшись в свои дома, они утомили свои семьи, и им разрешили уехать вместе через два месяца. , построив коттедж в Лланголлене, Уэльс, где они жили на свой ограниченный семейный доход, читая книги, писали письма и ухаживая за своим садом, «известные тем, что желали, чтобы их оставили в покое». Их посещали знаменитости от Шелли и Байрона до герцога Веллингтона и сэра Вальтера Скотта.
Что общего у дам из Лланголлена с Монтенем, так это стратегия «[отступления] во времена политического беспредела», в их случае Французской революции, в его Реформации. Сегодня многие из нас также могут почувствовать искушение отступить. Образ жизни, который Дамы называли « нашей Системой », с его монашеской размеренностью и пренебрежением к общественным ожиданиям подрывно притягателен. Подобно эссе Монтеня, он уверяет нас, что «малость личности где-то живет и ведет свои записи», что можно «наслаждаться мелочностью момента», когда повествование истории идет наперекосяк. Отступление — это не поражение. И если полностью уйти безответственно, в этом есть смысл. Предельные случаи Монтеня, Понсонби и Батлера, чье безделье не служило никакой дальнейшей цели, показывают, что трата времени сама по себе имеет смысл. Это то, что мы видим в образце их жизни, даже если перед лицом наших обязательств перед другими он не является образцом для нас.
Возможно, это даже не модель для них. В конце своей книги Хэмпл цитирует отрывок из Монтеня: « Мы говорим; «Ничего я сегодня не сделал». Ты что, не жил? Это не только основное, но и самое прославленное из ваших занятий… Об этом он говорит в своем Очерке под заглавием — что еще? — «О праздности». Только не говорит. Цитата из обширного эссе «Об опыте», которым завершается эссе . «О безделье» — более ранняя пьеса, квинтэссенция неуверенности в себе, в которой Монтень осуждает свое предприятие: «Душа, не имеющая определенной цели, теряет себя». Если он и излагает свои экстравагантности на бумаге, пишет он, то только для того, чтобы «мой разум устыдился самого себя». 5
В конце своей книги Хэмпл цитирует отрывок из Монтеня: « Мы говорим; «Ничего я сегодня не сделал». Ты что, не жил? Это не только основное, но и самое прославленное из ваших занятий… Об этом он говорит в своем Очерке под заглавием — что еще? — «О праздности». Только не говорит. Цитата из обширного эссе «Об опыте», которым завершается эссе . «О безделье» — более ранняя пьеса, квинтэссенция неуверенности в себе, в которой Монтень осуждает свое предприятие: «Душа, не имеющая определенной цели, теряет себя». Если он и излагает свои экстравагантности на бумаге, пишет он, то только для того, чтобы «мой разум устыдился самого себя». 5
Подобно Монтеню, который играл застенчивую, но компетентную роль в политике — он был мэром Бордо, — большинство из нас находит гнилой компромисс между праздностью и трудолюбием. Что еще мы можем сделать? Мы видим расцвет жизни в маленьких мгновениях, как видим масштаб уклоняющихся от нее обязанностей. Чтобы справиться с нашей амбивалентностью, необходима работа.