Религия в англии средние века: Религия в средневековой Англии. История Британских островов
Содержание
Религия в средневековой Англии. История Британских островов
Религия в средневековой Англии
Нормандское завоевание принесло в Англию основные веяния и идеи западного христианства, включив ее в орбиту религиозных реформ XI и XII вв. и открыв ее для таких новшеств, как новые монашеские ордена или крестовые походы. Английская церковь номинально и, в весьма высокой степени, фактически подчинялась папскому престолу. Церковнослужители присягали на верность двум господам — папе и королю. Благодаря международным религиозным связям английские священники могли сделать карьеру за границей, и наоборот, священники-иностранцы могли занимать высшие должности в английской церкви. Британские острова не остались в стороне и от волны распространения новых монашеских орденов: в 1220-х гг. в Англии появились доминиканцы и францисканцы. Неприглядная сторона того вклада, который внесла Англия в западное христианство, состояла в антисемитизме, который процветал на континенте начиная с 1090-х гг. Первое упоминание о евреях в Англии относится к довольно позднему времени — началу XII в., однако после этого антисемитизм становится заметной чертой английской жизни, достигнув высшей точки в правление Эдуарда I, издавшего указ об изгнании из страны евреев в 1290 г. В 1144 г. против евреев было выдвинуто, вероятно, первое обвинение в убийстве младенцев. Антисемитизм отражал враждебность к чужакам, свойственную средневековому обществу. Это была оборотная сторона крестовых походов.
Первое упоминание о евреях в Англии относится к довольно позднему времени — началу XII в., однако после этого антисемитизм становится заметной чертой английской жизни, достигнув высшей точки в правление Эдуарда I, издавшего указ об изгнании из страны евреев в 1290 г. В 1144 г. против евреев было выдвинуто, вероятно, первое обвинение в убийстве младенцев. Антисемитизм отражал враждебность к чужакам, свойственную средневековому обществу. Это была оборотная сторона крестовых походов.
Но продолжали существовать и более застарелые страхи. Роль тьмы — мира, находящегося за пределами человеческого понимания и не поддающегося его контролю — в средневековом воображении была одновременно составляющим элементом и порождением более общего страха. Это был враждебный мир, в котором действовали дьявол и ведьмы — представители легионов злых сил. Многие суеверия поддерживались и подогревались церковью. В 1479 г. Яков III, король Шотландии, обвинил в колдовстве своего брата, графа Мара. Несколько ведьм были сожжены по обвинению в уничтожении восковой фигурки, долженствовавшей представлять короля Якова.
Несколько ведьм были сожжены по обвинению в уничтожении восковой фигурки, долженствовавшей представлять короля Якова.
Многие короли Англии боролись с амбициями и претензиями папского престола и местного духовенства. Отказ Иоанна признавать поставленного папой архиепископа Кентерберийского привел к тому, что в 1208 г. на Англию был наложен интердикт, запрещавший все богослужения в стране. Короли враждебно смотрели на церковную юрисдикцию, не связанную с королевским правосудием, и на перемещение средств за пределы Англии. В XIV в. были изданы постановления, призванные ограничить папскую власть: Статуты Провизоров (1351 г.) и Praemunire (1351, 1393 гг.).
Антиклерикальными настроениями воспользовались лолларды, во главе которых стоял Джон Уиклифф (ум. 1384 г.), оксфордский теолог, отличавшийся радикальными воззрениями. Он отрицал необходимость в посредничестве между Богом и человеком, осуществляемом духовенством, папскую власть и доктрину пресуществления. Уиклифф подчеркивал авторитет Писания и подвергал критике богатство монашеских орденов. Он был осужден папой и английской церковью. После смерти Уиклиффа лолларды подвергались гонениям, особенно усилившимся после провала лоллардского заговора в 1414 г.
Он был осужден папой и английской церковью. После смерти Уиклиффа лолларды подвергались гонениям, особенно усилившимся после провала лоллардского заговора в 1414 г.
Церковь играла важнейшую роль в обществе — не в последнюю очередь в качестве образовательного, здравоохранительного и благотворительного института. Средневековые больницы, например, были первоначально религиозными учреждениями, предоставлявшими скорее тепло, кров и пищу, чем медицинское обслуживание. Они давали кров прокаженным и прочим отверженным.
Популярность и жизнеспособность позднесредневековой английской церкви остаются предметом споров. Некоторые историки подчеркивают ее популярность и жизнеспособность и утверждают, что по этим причинам Реформация не пользовалась популярностью в массах; другие ученые высказывают сомнения по этому поводу. Можно считать религиозные обряды главной путеводной нитью для средневекового человека, наполняющей его жизнь значением и красотой, но с тем же успехом можно переносить упор на антиклерикальные настроения. Можно подчеркивать аспект единения общества, особенно очевидный, например, для мессы, а можно придерживаться мнения, что религия способствовала обособлению индивидуума, указывая на частные молитвы, отвлекающие внимание от латинской литургии, произносимой священником. Как бы то ни было, большинство священников добросовестно выполняли свои обязанности и пользовались уважением прихожан. Традиционные обряды и верования поддерживались вербальными и визуальными средствами, включая кэролы, мистерии, витражи, статуи и фрески. Поэтому столь важную роль сыграла их отмена и уничтожение во время Реформации. Ясно то, что английское христианство XV в. являлось неотъемлемой частью международной церкви и что недовольство некоторыми ее сторонами и существование ереси лоллардов увеличивали тревогу, которую испытывали люди той эпохи.
Можно подчеркивать аспект единения общества, особенно очевидный, например, для мессы, а можно придерживаться мнения, что религия способствовала обособлению индивидуума, указывая на частные молитвы, отвлекающие внимание от латинской литургии, произносимой священником. Как бы то ни было, большинство священников добросовестно выполняли свои обязанности и пользовались уважением прихожан. Традиционные обряды и верования поддерживались вербальными и визуальными средствами, включая кэролы, мистерии, витражи, статуи и фрески. Поэтому столь важную роль сыграла их отмена и уничтожение во время Реформации. Ясно то, что английское христианство XV в. являлось неотъемлемой частью международной церкви и что недовольство некоторыми ее сторонами и существование ереси лоллардов увеличивали тревогу, которую испытывали люди той эпохи.
Арка в соборе Уэллса, Сомерсет
Средневековая английская архитектура во многом следовала французским образцам. Многие «английские» сооружения, такие как Даремский или Кентербериский соборы, возводились французскими архитекторами на службе у королей Норманской или Анжуйской династий. Однако, как и сами правители, постепенно англизировалась и архитектура, выработавшая особую английскую готику, примером которой может служить собор Уэллса.
Однако, как и сами правители, постепенно англизировалась и архитектура, выработавшая особую английскую готику, примером которой может служить собор Уэллса.
Церковь, религия и общество в Средние века — МФТИ
Клемешов Алексей Станиславович, кандидат исторических наук, доцент
Духовная жизнь и менталитет феодального общества Западной Европы отличались глубокой религиозностью. Католическая церковь являлась могущественным феодальным институтом. Христианство и деятели католической церкви сыграли важную роль в передаче традиций античной цивилизации, в развитии обществознания, науки. Христианская мораль и этика внедряла в общественное сознание нравственные ценности, служившие основой общечеловеческой культуры и европейской цивилизации. При изучении истории Средних веков чрезвычайно важно подчеркнуть позитивную роль христианства и католической церкви, просветительскую деятельность духовенства, социальную функцию защиты обездоленных, политических институтов, в оформлении семейно-брачных отношений и преодолении пережитков обычного права, кровной мести и произвола. История католицизма столь же противоречива, как и вся эпоха средневековья. Христианство в Западной Европе утверждалось путем жесточайшего насилия над личностью. Беспощадная борьба с языческим культом и ересями сопровождалась истреблением десятков и сотен тысяч людей, видевших иное толкование Священного Писания. Христианский фанатизм достиг своего апогея в эпоху инквизиции. Гуманистическая идеология, соборное движение, а затем и Реформация привели к существенным изменениям в религиозной идеологии и организации религиозных общин. В курсе рассматриваются все этапы эволюции Римской церкви на протяжении целого тысячелетия (с VI по XVI вв.). Её история представлена в тесной связи с историей феодального общества и особенностями идеологии средневековой Европы.
История католицизма столь же противоречива, как и вся эпоха средневековья. Христианство в Западной Европе утверждалось путем жесточайшего насилия над личностью. Беспощадная борьба с языческим культом и ересями сопровождалась истреблением десятков и сотен тысяч людей, видевших иное толкование Священного Писания. Христианский фанатизм достиг своего апогея в эпоху инквизиции. Гуманистическая идеология, соборное движение, а затем и Реформация привели к существенным изменениям в религиозной идеологии и организации религиозных общин. В курсе рассматриваются все этапы эволюции Римской церкви на протяжении целого тысячелетия (с VI по XVI вв.). Её история представлена в тесной связи с историей феодального общества и особенностями идеологии средневековой Европы.
В плане изучения учебного материала по тематике лекций планируется проведение семинарских занятий и контрольной работы.
Тема: Христианизация народов Европы и Римская церковь в VI – VIII вв.
Основные формы христианства в Западной Европе: католичество, несторианство, арианство. Народные языческие верования в эпоху раннего средневековья. Распространение христианства в варварских королевствах. Религиозная политика королевской власти. Влияние католической церкви на нравственное и эмоциональное поведение. Пути достижения высокой святости: исцеление прокаженных и слепых знамением и молитвой, благочестие, милосердие, целомудрие, забота о постройке церквей. Скромность и смирение как нормы христианской этики. Христианская церковь в Ирландии как центр миссионерской деятельности.
Народные языческие верования в эпоху раннего средневековья. Распространение христианства в варварских королевствах. Религиозная политика королевской власти. Влияние католической церкви на нравственное и эмоциональное поведение. Пути достижения высокой святости: исцеление прокаженных и слепых знамением и молитвой, благочестие, милосердие, целомудрие, забота о постройке церквей. Скромность и смирение как нормы христианской этики. Христианская церковь в Ирландии как центр миссионерской деятельности.
Тема: Христианский идеал самоотречения и первые монашеские братства в Западной Европе V – VIII вв.
Религиозно-философский идеал монашества. Восточное отшельничество как форма самоотречения и аскезы. Социальные и евангелические мотивы отказа от мирской жизни. Виды полного самоотречения: чрезмерное воздержание от источников реальной жизни (от пищи, сна, одежды), телесное самоистязание, затворничество. Особенности монастырских общин в Ирландии. Деятельность св. Мартина (316–397 гг. ) в Галлии. Разрушение языческих святилищ, строительство церквей и основание монастырей в Пуатье и Мормутье. Первые уставы для монастырей: в Марселе (св. Кассиан – V в.), в Монте-Кассино (св. Бенедикт – VI в.). Женские монастыри в Галлии («Церковная история» Григория Турского – IX, 33, 43; X, 12, 15, 16). Первые монастыри в Италии: Боббио, Нонантула, Монте-Кассино, Виварий Флавия Кассиодора (490-585 гг.). Основные аспекты деятельности монахов, обращение в христианскую веру язычников, участие во внутренней колонизации, интеллектуальные занятия. Монастыри как центры образования, книжной культуры и христианской учености. Формирование монашеского братства на основе принципов строгой дисциплины, общей собственности, совместного труда. Правила монастырской жизни, распорядок дня. Избрание аббата и его функции. Конструктивная роль монашества в эпоху раннего средневековья.
) в Галлии. Разрушение языческих святилищ, строительство церквей и основание монастырей в Пуатье и Мормутье. Первые уставы для монастырей: в Марселе (св. Кассиан – V в.), в Монте-Кассино (св. Бенедикт – VI в.). Женские монастыри в Галлии («Церковная история» Григория Турского – IX, 33, 43; X, 12, 15, 16). Первые монастыри в Италии: Боббио, Нонантула, Монте-Кассино, Виварий Флавия Кассиодора (490-585 гг.). Основные аспекты деятельности монахов, обращение в христианскую веру язычников, участие во внутренней колонизации, интеллектуальные занятия. Монастыри как центры образования, книжной культуры и христианской учености. Формирование монашеского братства на основе принципов строгой дисциплины, общей собственности, совместного труда. Правила монастырской жизни, распорядок дня. Избрание аббата и его функции. Конструктивная роль монашества в эпоху раннего средневековья.
Тема: Христианизация Европы в IX — XI вв.
Расширение сферы влияния католической церкви. Политические последствия христианизации народов Европы. Укрепление авторитета Римской церкви. Церковная политика Карла Великого. Создание системы христианского воспитания и образования. Теологи IX в. (Алкуин, Агобард Лионский, Валафрид Страбон, Рабан Мавр) и их роль в формировании средневековой схоластики. Церковь и феодальные войны. Политические предпосылки движения за «мир». Католическая доктрина «справедливой», позже «Священной» войны. Значение католических канонов о войне в формировании рыцарской идеологии. Религиозная нравственность и феодальный быт. Влияние церковной идеологии на воспитание, образование, мораль, нравы и обычаи эпохи.
Укрепление авторитета Римской церкви. Церковная политика Карла Великого. Создание системы христианского воспитания и образования. Теологи IX в. (Алкуин, Агобард Лионский, Валафрид Страбон, Рабан Мавр) и их роль в формировании средневековой схоластики. Церковь и феодальные войны. Политические предпосылки движения за «мир». Католическая доктрина «справедливой», позже «Священной» войны. Значение католических канонов о войне в формировании рыцарской идеологии. Религиозная нравственность и феодальный быт. Влияние церковной идеологии на воспитание, образование, мораль, нравы и обычаи эпохи.
Тема: Кризис Римской церкви и предпосылки ее реформирования ( X – XI вв.). Клюнийское движение
Духовный кризис и обмирщение церкви. Продажа церковных должностей. Феодализация католической церкви. Рост церковно-монастырского землевладения. Подъём монастырской интеллектуальной культуры в X–XI вв. и усиление идеологического влияния монастырей. Рост престижа монастырей в общественно-политической жизни. Научная и просветительская деятельность монахов, ученых теологов и педагогов. Идеи нравственного очищения церкви и обновления церковной жизни. Деятельность Бенедикта Анианского (IX в.) по усилению дисциплины монастырской жизни и укреплению власти аббата. Введение в монастырях устава св. Бенедикта. Роль бенедиктинцев и цистерцианцев в реформаторском движении X–XI вв. Задачи реформирования. Монастырская реформа в Англии (966 г.), её идейная и политическая направленность. Орден Клюни – «душа средневековья» (Д. Ботти). Основание монастыря (910 г.). Клюнийская конгрегация монастырей. Постановления соборов о введении целибата и запрете симонии. Итоги Клюнийской реформы. Укрепление организационных основ Римской церкви. Поднятие авторитета папской власти. Упорядочение церковного культа. Утверждение догматов католической церкви. Развитие католической церкви в могущественный феодальный институт. Признание права церкви на взимание «десятины» и платы за совершение обрядов. Политическая зависимость европейских государств от Римского престола.
Научная и просветительская деятельность монахов, ученых теологов и педагогов. Идеи нравственного очищения церкви и обновления церковной жизни. Деятельность Бенедикта Анианского (IX в.) по усилению дисциплины монастырской жизни и укреплению власти аббата. Введение в монастырях устава св. Бенедикта. Роль бенедиктинцев и цистерцианцев в реформаторском движении X–XI вв. Задачи реформирования. Монастырская реформа в Англии (966 г.), её идейная и политическая направленность. Орден Клюни – «душа средневековья» (Д. Ботти). Основание монастыря (910 г.). Клюнийская конгрегация монастырей. Постановления соборов о введении целибата и запрете симонии. Итоги Клюнийской реформы. Укрепление организационных основ Римской церкви. Поднятие авторитета папской власти. Упорядочение церковного культа. Утверждение догматов католической церкви. Развитие католической церкви в могущественный феодальный институт. Признание права церкви на взимание «десятины» и платы за совершение обрядов. Политическая зависимость европейских государств от Римского престола. Развитие реформы в XII в.
Развитие реформы в XII в.
Тема: Духовно-рыцарские ордена в XII — XV вв.
Роль папства в организации военной защиты интересов католической церкви. Предпосылки возникновения монашеских братств рыцарей-воинов. Принятие четырех монашеских обедов: безбрачие, бедность, послушание, военная функция защиты католической веры. Иерусалимский орден – «Орден защитников Гроба Господня» (1114 г.). Символика ордена, посвященная Иисусу Христу и пилигриму. Объединение с орденом Госпитальеров (конец XV – папа Иннокентий VIII). Орден Храма («Тайное рыцарство Христово») – 1118 г. Феодальная элита Франции в составе братства. Св. Бернард о секретной миссии Ордена Храма. «Великая Хартия» Ордена Храма (1139 г.): покровительство и опека папы, освобождение от десятины. Папская булла 1162 г. о привилегиях тамплиеров, освобождение от юрисдикции местных епископов, право отпущения грехов и получения десятины как милостыни. Устав Ордена Храма. Структура и управление. Военно-политическая, дипломатическая и финансовая деятельность Ордена Храма. Причины конфликта ордена с французским королем Филиппом IV. Инквизиционный процесс 1307–1312 гг. Роспуск ордена папой (1312 г.). Казнь Великого Магистра. Первый госпиталь для паломников в Иерусалиме (1071 г.) и «Религиозное братство» для оказания помощи больным и бедным (1099 г.). «Орден всадников госпиталя Св. Иоанна Иерусалимского» (1113 г.). Объединение рыцарей-госпитальеров в монашескую общину (1128 г.). Благотворительная деятельность ордена: забота о пилигримах, помощь больным и увечным крестоносцам, защита их от сарацин. Военно-политическая функция рыцарей-госпитальеров в период крестовых войн. Структура Ордена Госпитальеров. Преобразование Ордена Госпитальеров в Орден рыцарей Родоса (1310 г.) и в Мальтийский орден Св. Иоанна Иерусалимского (нач. XVI в.) с функцией защиты христиан от воинов Турецкого султана. Духовно-рыцарские ордена и Реконкиста в Испании. Основание Тевтонского ордена (1198 г.) и перенесение военной деятельности «Братьев Немецкого Дома» в Прибалтику (1206 г.).
Причины конфликта ордена с французским королем Филиппом IV. Инквизиционный процесс 1307–1312 гг. Роспуск ордена папой (1312 г.). Казнь Великого Магистра. Первый госпиталь для паломников в Иерусалиме (1071 г.) и «Религиозное братство» для оказания помощи больным и бедным (1099 г.). «Орден всадников госпиталя Св. Иоанна Иерусалимского» (1113 г.). Объединение рыцарей-госпитальеров в монашескую общину (1128 г.). Благотворительная деятельность ордена: забота о пилигримах, помощь больным и увечным крестоносцам, защита их от сарацин. Военно-политическая функция рыцарей-госпитальеров в период крестовых войн. Структура Ордена Госпитальеров. Преобразование Ордена Госпитальеров в Орден рыцарей Родоса (1310 г.) и в Мальтийский орден Св. Иоанна Иерусалимского (нач. XVI в.) с функцией защиты христиан от воинов Турецкого султана. Духовно-рыцарские ордена и Реконкиста в Испании. Основание Тевтонского ордена (1198 г.) и перенесение военной деятельности «Братьев Немецкого Дома» в Прибалтику (1206 г.). «Ледяные крестовые походы» с целью христианизации пруссов, народов Ливонии, подчинения русских католической церкви. Тевтонские рыцари как носители идеи национального превосходства. Значение деятельности Тевтонского ордена. Упадок и крах Тевтонского ордена (с нач. XV в.). Принятие Великим магистром Альбертом Брандербургским протестантства (1525 г.).
«Ледяные крестовые походы» с целью христианизации пруссов, народов Ливонии, подчинения русских католической церкви. Тевтонские рыцари как носители идеи национального превосходства. Значение деятельности Тевтонского ордена. Упадок и крах Тевтонского ордена (с нач. XV в.). Принятие Великим магистром Альбертом Брандербургским протестантства (1525 г.).
Тема: Монашеское и евангелическое движение ( XII – XV вв.)
Монашеский аскетизм как часть религиозного мировоззрения. Христианская идея спасения через освобождение души от плоти и земных страстей. Внедрение аскетизма в сознание народа учеными-теологами и проповедниками (служителями церкви, монахами). Идеологи аскезы. Цель аскезы: стремление к спасению. Формы аскезы: молитвы, посты, ношение вериг и власяниц, строгий монастырский устав (полный уход от мира), добровольное заточение в замурованных кельях, самобичевание, ночные бдения, отказ от пищи и одежды. Содержание: подражание Христу до повторения его страданий, возвращение к Богу через умерщвление плоти. Понятие «смертный грех» в средневековой теологии. Семь основных пороков в формулировке Григория I Великого. С XIII в. «saligia» – порядок главных грехов: гордыня (с тщеславием) – superbia, жадность – avaritia, сладострастие – luxuria, гнев – ira, чревоугодие – gula, зависть – invidia, печаль – acedia. Виды церковного наказания: анафема, интердикт. Почитание подвижников в народе, канонизация церковью. Образование монашеских орденов и конгрегаций в XII–XIV вв. Отшельничество и паломничество как пути к достижению спасения, способы очищения от греховной плоти. Цистерцианский орден. Деятельность цистерцианцев: занятия физическим трудом, сельским хозяйством. Участие во внутренней колонизации в Европе. Занятия наукой и священными искусствами. Цистерцианские монахи, аббаты – видные представители теологии: Бернард Клевросский (XII в.), Иоахим Флорский (XIII в.). Орден кармелитов (1156 г.). Орден Св. Франциска. Францисканское движение. Биография Франциска из Ассизи (1207–1290 г.). Проповедь абсолютной бедности и смирения ради верности «нищему Христу».
Понятие «смертный грех» в средневековой теологии. Семь основных пороков в формулировке Григория I Великого. С XIII в. «saligia» – порядок главных грехов: гордыня (с тщеславием) – superbia, жадность – avaritia, сладострастие – luxuria, гнев – ira, чревоугодие – gula, зависть – invidia, печаль – acedia. Виды церковного наказания: анафема, интердикт. Почитание подвижников в народе, канонизация церковью. Образование монашеских орденов и конгрегаций в XII–XIV вв. Отшельничество и паломничество как пути к достижению спасения, способы очищения от греховной плоти. Цистерцианский орден. Деятельность цистерцианцев: занятия физическим трудом, сельским хозяйством. Участие во внутренней колонизации в Европе. Занятия наукой и священными искусствами. Цистерцианские монахи, аббаты – видные представители теологии: Бернард Клевросский (XII в.), Иоахим Флорский (XIII в.). Орден кармелитов (1156 г.). Орден Св. Франциска. Францисканское движение. Биография Франциска из Ассизи (1207–1290 г.). Проповедь абсолютной бедности и смирения ради верности «нищему Христу». Устав ордена Св. Франциска. Иерархия Францисканского ордена. Деятельность францисканцев: проповеди официального учения католической церкви, совершение таинств на дорогах паломничества. Орден Св. Доминика. Основание ордена в 1215 г. испанским монахом Домиником де Гузман. Устав 1216 г., утвержденный папой. Функции ордена: подготовка теологов для борьбы с ересями, инквизиция (1232 г.). Монастыри – интеллектуальные центры Западной Европы. Евангелическое движение в XII–XIV вв.. Социальные предпосылки обращения к евангелическим принципам раннего христианства. Главные события евангелического движения. Популярность христианской концепции строгой евангелической жизни. Популярное богословие и народная культура. Проблема религиозного и социального поведения паствы. Народная религиозность. Особенности религиозной психологии. Народные религиозные течения в христианстве. Ереси. Социальная и антиклерикальная направленность средневековых ересей XI–XV вв.
Устав ордена Св. Франциска. Иерархия Францисканского ордена. Деятельность францисканцев: проповеди официального учения католической церкви, совершение таинств на дорогах паломничества. Орден Св. Доминика. Основание ордена в 1215 г. испанским монахом Домиником де Гузман. Устав 1216 г., утвержденный папой. Функции ордена: подготовка теологов для борьбы с ересями, инквизиция (1232 г.). Монастыри – интеллектуальные центры Западной Европы. Евангелическое движение в XII–XIV вв.. Социальные предпосылки обращения к евангелическим принципам раннего христианства. Главные события евангелического движения. Популярность христианской концепции строгой евангелической жизни. Популярное богословие и народная культура. Проблема религиозного и социального поведения паствы. Народная религиозность. Особенности религиозной психологии. Народные религиозные течения в христианстве. Ереси. Социальная и антиклерикальная направленность средневековых ересей XI–XV вв.
Тема: Церковь, власть и общество в XII – нач. XIV вв.
XIV вв.
Идеологическое, политическое и экономическое могущество католической церкви. Духовенство в сословной структуре феодального общества. Идеологическое влияние церкви на воспитание, образование, культуру и общественную мораль. Защита и обоснование справедливости феодального общественного порядка. Роль католической церкви в сохранении античного культурного наследия (философия, право, литература). Церковь в центре общественных противоречий. Ослабление политического влияния папства в XIV в. Особенности положения национальной католической церкви в странах Западной Европы. Развитие независимых централизованных государств. Борьба европейских монархов за расширение своего суверенитета. Нарастание социальной напряженности в феодальном обществе. Предпосылки Великой схизмы XV в. Усиление церкви, как феодального института.
Тема: Демонология, ведовство и роль инквизиции в «охоте на ведьм»
Теологическое толкование образа Антихриста и дьявола. Богословская сущность демонологии. Христианские писатели о злодеяниях дьявола и демонской рати. Учение об инкубах и суккубах. Бытовое двоеверие. Колдовство, знахарство, гадания, предсказания, толкование снов. Богословская трактовка магической практики – «служение дьяволу». Демонологические легенды Средневековья. Церковь в борьбе с магией, колдовством и ведовством. Постановления соборов о наказании колдунов. Теологические трактаты и сочинения инквизиторов XII–XIV вв. Руководства по ведению ведовских процессов. Деятельность инквизиции по сыску и наказанию еретиков и «служителей дьявола». Особенности инквизиционного процесса и работы инквизиционного трибунала. Роль доминиканцев в защите святой веры. Ведовские процессы в XV–XVI вв. Итоги деятельности инквизиции и ее устранение в XVI в. Сохранение методов инквизиционного судопроизводства в светских судах по делам ведовства.
Христианские писатели о злодеяниях дьявола и демонской рати. Учение об инкубах и суккубах. Бытовое двоеверие. Колдовство, знахарство, гадания, предсказания, толкование снов. Богословская трактовка магической практики – «служение дьяволу». Демонологические легенды Средневековья. Церковь в борьбе с магией, колдовством и ведовством. Постановления соборов о наказании колдунов. Теологические трактаты и сочинения инквизиторов XII–XIV вв. Руководства по ведению ведовских процессов. Деятельность инквизиции по сыску и наказанию еретиков и «служителей дьявола». Особенности инквизиционного процесса и работы инквизиционного трибунала. Роль доминиканцев в защите святой веры. Ведовские процессы в XV–XVI вв. Итоги деятельности инквизиции и ее устранение в XVI в. Сохранение методов инквизиционного судопроизводства в светских судах по делам ведовства.
Тема: Реформация и Контрреформация в Европе в XVI в.
Особенности исторического развития стран Западной Европы в XVI веке. Образование крупных национальных государств. Развитие абсолютизма. Генезис капитализма и его влияние на феодальные институты. Социально-политические предпосылки Реформации. Возвышение буржуазии. Усиление социальных контрастов. Экспроприация крестьянства и пауперизация населения. Экономическая, политическая и культурная роль буржуазии. Идеологическая подготовка Реформации. Развитие наук и общественной мысли. Значение книгопечатания (с середины XV в.) для развития светского образования и установления международных контактов в сфере интеллектуальной культуры. Критика гуманистами папской теократической доктрины и нравственного состояния духовенства. Идейные истоки Реформации. Антикатолическая, антифеодальная направленность общественного движения в XVI веке. Реформация как форма утверждения буржуазной идеологии в религиозной сфере. Обострение классовых конфликтов и народное крестьянско-плебейское понимание Реформации. Объединение усилий европейских монархов для защиты католицизма. Рим – организаторский центр борьбы с протестантизмом.
Образование крупных национальных государств. Развитие абсолютизма. Генезис капитализма и его влияние на феодальные институты. Социально-политические предпосылки Реформации. Возвышение буржуазии. Усиление социальных контрастов. Экспроприация крестьянства и пауперизация населения. Экономическая, политическая и культурная роль буржуазии. Идеологическая подготовка Реформации. Развитие наук и общественной мысли. Значение книгопечатания (с середины XV в.) для развития светского образования и установления международных контактов в сфере интеллектуальной культуры. Критика гуманистами папской теократической доктрины и нравственного состояния духовенства. Идейные истоки Реформации. Антикатолическая, антифеодальная направленность общественного движения в XVI веке. Реформация как форма утверждения буржуазной идеологии в религиозной сфере. Обострение классовых конфликтов и народное крестьянско-плебейское понимание Реформации. Объединение усилий европейских монархов для защиты католицизма. Рим – организаторский центр борьбы с протестантизмом.
Источники
1. Абеляр. История моих бедствий. – М., 1959.
2. Августин Аврелий. Творения. – СПб., Киев, 1998.
Творения. – СПб., Киев, 1998.
3. Антипапское движение в Риме в XII–XIII веках. Документы. Вопросы истории религии и атеизма. 1962. Вып. 10.
4. Бубнов Н. М. Сборник писем Герберта. Тт. 1–3. 1890.
5. Гельмольд. Славянская хроника. – М., 1963.
6. Григорий Турский. История франков. – М., 1987.
7. Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. – Б.В.Л., 1967.
8. Документы о взаимоотношениях папской курии с Великим киевским князем Изяславом Всеволодовичем и польским князем Болеславом II Смелым // Вестник Московского университета. История. 1975, № 5.
9. Идеи эстетического воспитания. Т. 1. М., 1973 (Фома Аквинский. Должно ли включать напевы в богослужение?).
10. Иннокентий III. О презрении к миру. // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Ч. II. – Изд. Саратовского университета, 1988.
11. Историки эпохи Каролингов.– М., 1999.
Историки эпохи Каролингов.– М., 1999.
12. Итальянские гуманисты XV в. о церкви и религии. – М., 1963.
13. Итальянский гуманизм эпохи возрождения. Ч. II. – Изд. Саратовского университета. 1988.
14. Каноны или книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных и святых отцов. – М., 2000.
15. Легенда о докторе Фаусте. – М., 1978.
16. Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989.
17. Лютер М. Избранные произведения. – СПб., 1994.
18. Мюнцер Т. Пражское воззвание. Письма Т. Мюнцера. СВ. № 52. – М., 1989.
19. Памятники средневековой латинской литературы IV–IX вв. – М., 1970.
20. Памятники средневековой латинской литературы X–XI вв. – М., 1972.
21. Папские тексты отпущения грехов // Вопросы истории религии и атеизма. 1954. Вып. 4.
4.
22. Подвижники: избранные жизнеописания и труды. – Самара. 1998.
23. Послания магистра Иоанна Гуса. – М., 1903.
24. Рихер Реймсский. История. – М., 1998.
25. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – МГУ, 1985.
26. Сугер из Сен-Дени. Книжечка об освящении церкви Св. Дионисия. // Идеи эстетического воспитания. Т. I. – М., 1973.
27. Ульрих Страсбургский. Сумма о благе. История Эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. I. – М, 1962, стр. 291–301.
28. Ульрих фон Гуттен. Диалоги. Публицистика. Письма. – М., АН СССР, 1959.
29. Фома Кемпийский. О подражании Христу // Богословие в культуре Средневековья. – Киев, 1992.
30. «Цветочки» Св. Франциска Ассизского. – М., 1990; М., 2000.
31. Шпренгер Я., Инсисторис Г. «Молот ведьм». – М., 1990.
32.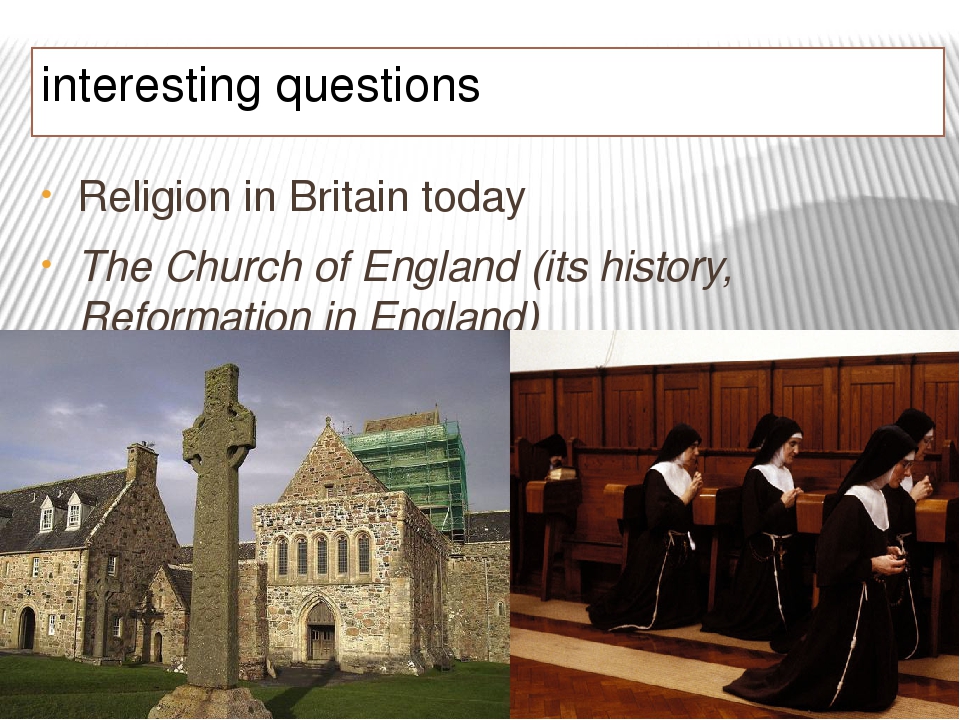 Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. – М., 1969.
Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. – М., 1969.
33. Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М., 1987.
Литература
1. Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. – М., 1976.
2. Бедуелл Г. История церкви / Пер. с франц. К.Н. Корсакова. – М., 1996.
3. Бецольд Ф. История Реформации в Германии. Тт. 1–2. – СПб., 1900.
4. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – Одесса, 1919.
5. Бицилли П.М. Очерки итальянской жизни XIII в. – Одесса, 1916.
6. Богословие в культуре Средневековья. – Киев, 1992.
7. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1966.
8. Безескул В.П. Папство и Арнольд Брешианский. – Харьков, 1884.
9. Безескул В.П. К истории папства в XI столетии. – СПб, 1911.
Безескул В.П. К истории папства в XI столетии. – СПб, 1911.
10. Веселовский А.Н. Где сложилась легенда о Святом Граале? – СПб., 1900.
11. Вильфиус А.Г. Вальденское движение и развитие религиозного индивидуализма. – М., 1916.
12. Вильфиус А.Г Характер и состав ранних вальденских общин. – М., 1914.
13. Виппер Р.Ю. Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма. – М., 1984.
14. Вязигин А.С. Очерки из истории папства в XI столетии. – СПб., 1911.
15. Вязигин А.С. Григорий VII. Его жизнь и общественная деятельность. – СПб., 1891.
16. Гейсер. История Реформации. – М., 1892.
17. Генкинг М. Дьявол. – М., 1930.
18. Гергей Е. История папства (XII–XX вв.). – М., 1996.
19. Герье В.И. Западное монашество и папство. – М., 1913.
20. Герье В.И. Расцвет западной теократии. – М., 1916.
– М., 1916.
21. Голенищев-Кутузов И.Н. Средневековая латинская литература Италии. – М., 1972.
22. Гревс И.М. Новый труд по религиозной истории средневековой Италии в русской научной литературе. – СПб., 1913.
23. Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века. Тт. 1–5. – СПб., 1903–1907.
24. Григулевич Р.И. Инквизиция. – М., 1985.
25. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.
26. Данэм Б. Герои и еретики. Политическая история западной мысли. – М., 1967.
27. Дашкевич Н.П. Сказание о святом Граале // Из истории средневекового романтизма. – К., 1877.
28. Демонология эпохи Возрождения. – М., 1995.
29. Добиаш-Рождественская О.А. Западные паломничества в Средние века. – Пг. 1924.
30. Добиаш-Ррождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья.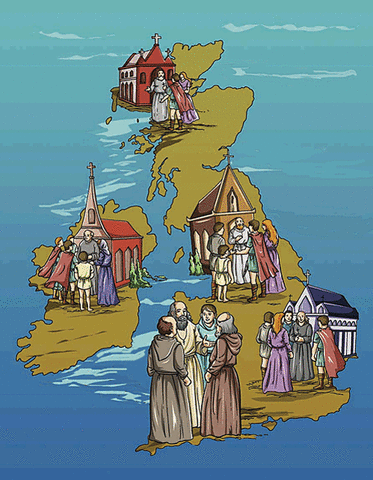
31. Добиаш-Рождественская О.А. Культ Св. Михаила в латинском средневековье. V–XIII вв. – Пг., 1917.
32. Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце. – М., 1991.
33. Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. – М., 1977.
34. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. – М., 1980.
35. Заборов М.А. Крестовые походы. – М., 1956.
36. Заборов М.А. Папство и крестовые походы. – М., 1960.
37. Кантарович. Средневековые процессы против ведьм. 1899.
38. Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII вв., преимущественно в Италии. – Пг., 1915.
39. Карсавин Л.П. Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII вв. – СПб., 1912.
40. Карсавин Л.П. Святые отцы и учители церкви. – М., 1994.
41. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. – М., 1992.
Монашество в Средние века. – М., 1992.
42. Карташев А.В. Вселенские соборы. – М., 1994.
43. Клячин В.П. Политические собрания и политическая организация кальвинистов во Франции XVI в. – Киев, 1888.
44. Керов В.Л. Идеи Апокалипсиса в Средние века. – М., 1992.
45. Ковальский Ян Веруш. Папы и папство. – М., 1991.
46. Колдуньи и ведьмы. – М., 1996.
47. Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. – СПб., 1901.
48. Котляревский С.А. Францисканский орден и римская курия в XIII–XIV вв. – М., 1901.
49. Кузнецов Е.В. Движение лоллардов в Англии (к. XIV–XV вв.). – Горький, 1968.
50. Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М., 1981.
51. Куртц И.Г. Очерк церковной истории. – СПб., 1868.
52. Ланфрэ П. Политическая история папства. – СПб., 1870.
53.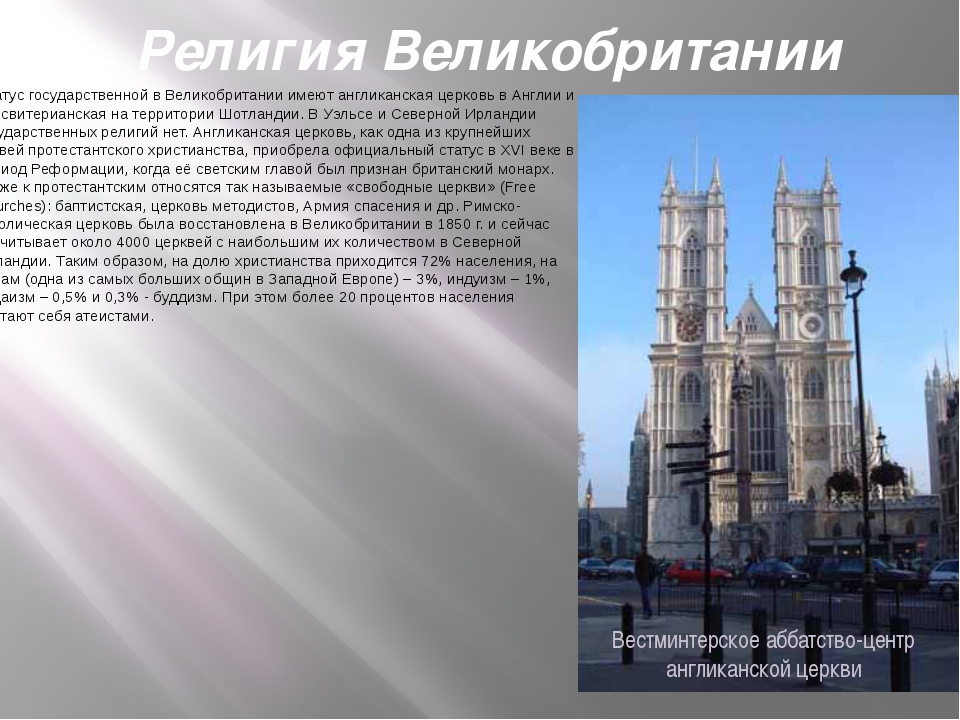 Лебедев А.П. Из истории нравственного состояния духовенства от II до VIII в. 1903.
Лебедев А.П. Из истории нравственного состояния духовенства от II до VIII в. 1903.
54. Лекки Г. История возникновения и влияния рационализма в Европе. Т.1. 1871.
55. Леман. Иллюстрированная история суеверий и волшебств. 1901.
56. Ли Г.Ч. История инквизиции в Средние века. Тт. 1–2. – СПб., 1911–1912.
57. Лозинский С.Г. История папства. – М., 1986.
58. Лортц Йозеф. История церкви. Т. 1. Древность и Средние века. – М., 1999; Т. 2. – М., 2000.
59. Лучицкий И.В. Гугенотская аристократия и буржуазия на юге после Варфоломеевской ночи. – СПб., 1870.
60. Лучицкий И.В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. – Киев, 1871.
61. Лучицкий И.В. Католическая лига и кальвинисты во Франции. 1877.
62. Малицкий. Борьба галльской церкви против пап за независимость.
63. Маркин С. Знакомство с Эразмом. – М., 1971.
– М., 1971.
64. Мельвиль Марион. История ордена тамплиеров. – СПб., 2000.
65. Мень А. История христианства. Т. 2. – М., 1992.
66. Мирошкин Н. Древняя британская церковь. ЖМН Пр. № 163, 1872.
67. Мишле Ж. Ведьма. – М., 1997.
68. Осиновский И.Н. Томас Мор. – М., 1985.
69. Осиновский И.Н. Томас Мор – утопический коммунизм, гуманизм, Реформация. – М., 1978.
70. Осокин Н.А. История альбигойцев до смерти папы Иннокентия III. – Казань, 1872.
71. Осокин Н.А. История альбигойцев и их времени. – Казань, 1869–1872.
72. Осокин Н.А. Первая инквизиция и завоевание Лангедока французами. – Козлов, 1872.
73. Парнов Е. Трон Люцифера. – М., 1991.
74. Перну Р., Клэн М-В. Жанна д`Арк. 1992.
75. Перцев В.Н. Католическая церковь и новая культура XIII–XV вв. – Минск, 1938.
76. Плешкова С.Л. Французская монархия и церковь (XV – сер. XVI вв.). – М., 1992.
77. Поснов М.Э. История христианской церкви. – Брюссель, 1964.
78. Потехин А. Очерки из истории борьбы англиканства с пуританством при Тюдорах (1550–1603). – Казань, 1894.
79. Рамм Б.Я. Папство и Русь в X–XV вв. – М.-Л., 1959.
80. Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. – М., 1988.
81. Рожков В. Очерки по истории Римско-католической церкви. – М., 1998.
82. Савин А.Н. Английская секуляризация. – М., 1906.
83. Савин А.Н. Религиоозная история Европы эпохи Реформации. – М., 1914.
84. Самаркин В.В. Восстание Дольчино. – М., 1971.
85. Сидорова Н.А. Очерки по истории ранней городской культуры во Франции. – М., 1953.
86. Сказкин С.Д. Исторические условия восстания Дольчино. – М., 1955.
– М., 1955.
87. Сказкин С.Д. Избранные труды по истории. – М., 1973.
88. Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в Средние века. – М., 1981.
89. Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера. – М., 1955.
90. Сперанский Н. Ведьмы и ведовство. – М, 1906.
91. Сумцов Н. Очерк истории колдовства. 1878.
92. Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 2000.
93. Тардже Дж. Мир паломничества. – М., 1998.
94. Трахтенберг О.В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. – М., 1957.
95. Тухолка С. Процессы о колдовстве в Западной Европе в XV–XVI вв. – СПб, 1909.
96. Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. – М., 1989.
97. Усков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего средневековья. – Алетейя, 2001.
– Алетейя, 2001.
98. Фергюсон Д. Христианский символизм. – М., 1998.
99. Флори Жан. Идеология меча. – СПб., 1999.
100. Хейзинга Йохан. Осень Средневековья. – М., 1995.
101. Херманн Х. Савонаролла: еретик из Сан-Марко.– М., 1982.
102. Хьюз Р. Небеса и ад. – М., 1998.
103. Шевкина Г.В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты XIII в. – М., 1972.
104. Штекли А. Томас Мюнцер. – М., 1961.
105. Эразм Роттердамский и его время. – М., 1989.
Примерная тематика рефератов к курсу:
1. Бенедикт и его устав.
2. Немецкий проповедник Бертольд Регенсбургский.
3. Поэма Вернера Садовника «Майер Гельмбрехт» – как отражение корпоративного сознания средневекового человека.
4. Традиции и верования древних германцев.
5. Тамплиеры. Суть конфликта с королевской властью.
Суть конфликта с королевской властью.
6. Восприятие средневековым человеком жизни земной и загробной.
7. Св. Колумбан и его устав.
8. Основные пути христианизации германских народов в IV–IX вв.
9. Монашество в Западной Европе X–XI вв.
10. Церковь и образование в раннее средневековье.
11. Иоанн Кассиан и монашеское воспитание на Востоке и Западе.
12. Рыцарское воспитание.
13. Городские школы, схоластика и университет в средние века.
14. Выступление М. Лютера против римской курии. «95 тезисов против индульгенций».
15. Учение и деятельность Жана Кальвина.
16. Орден иезуитов и его устав.
17. Елизавета Тюдор и англиканская реформация.
18. Государство и церковь глазами пуритан.
19. Эразм Роттердамский о схоластике, монашестве и церкви («Похвала глупости»).
20. Критика духовенства и папства Ульрихом фон Гуттеном.
21. Ульрих фон Гуттен о плане борьбы с засильем церкви.
22. Критика общественного строя Англии в «Утопии» Томаса Мора.
23. Общество будущего по «Городу Солнца» Томазо Кампанеллы.
24. Формирование духовно-интеллектуальной элиты в средние века: монастырь, королевский двор, университет.
25. Этический идеал Гассенди и его отношение к религии.
26. Варфоломеевская ночь в мемуарах XVI в.
27. Мария Стюарт в политической борьбе эпохи Реформации.
28. Демонология и деятельность инквизиции в XV–XVI вв.
Контрольные вопросы по курсу:
1. Боги и верования германской языческой эпохи.
2. Основные пути проникновения христианства к германским народам.
3. Принятие христианства англосаксами и северными германцами – скандинавами.
4. Христианское миссионерство в VII–VIII вв.
5. Христианизация как одно из орудий внешней экспансии при Каролингах.
6. Принятие христианства франками в эпоху Меровингов.
7. Язычество и «народное христианство».
8. Государство и церковь раннего средневековья.
9. Возникновение аскетического движения.
10. Учение Оригена об истинном христианине.
11. Павел Фивский – «основатель и царь монашеской жизни».
12. Основные формы отшельничества.
13. Антоний Египетский.
14. Пахомий, его жизнь и деятельность.
15. Монастыри Василия Великого.
16. Распространение аскетического движения в Западной Европе.
17. Деятельность св. Мартина.
18. Первые попытки кодификации монастырских уставов (Устав Кассиена).
19. Процесс изменения первоначального монашества, его суть, институт новициата.
20. Попытки реформы монашества (мероприятия Карла Великого, монастырский капитулярий 817 года).
21. Понятие «церковь». Организационное строение католической церкви. Основные функции церкви в странах Западной Европы.
Основные функции церкви в странах Западной Европы.
22. Церковь в системе феодальных отношений.
23. Место духовенства в сословной структуре общества.
24. Усиление могущества церкви в XI–XIII вв.
25. Католическая церковь и процесс политической централизации в странах Западной Европы.
26. Роль церкви в эпоху средневековья.
27. Процесс политической централизации и укрепление королевской власти в странах Западной Европы.
28. Городские школы: содержание образования и организация учебного процесса.
29. Содержание и формы обучения в средневековых высших школах.
30. Францисканцы и доминиканцы.
31. Универсальный характер средневековой проповеди.
32. Основополагающие акты Святой Инквизиции.
33. Инквизиционное судопроизводство.
34. Восприятие средневековым человеком жизни земной и загробной.
35. Клюнийское движение.
36. Что способствовало устойчивости народной магии.
37. Система сакраментов и сакраменталий.
38. Сакрально-магические ритуалы христианской церкви, их назначение и связь с язычеством.
39. Основные черты лютеровской церковно-реформационной программы. Возникновение лютеранской церкви.
40. Т. Мюнцер и его реформационная деятельность.
41. Складывание кальвинистской церкви.
42. Деятельность инквизиции в XVI веке.
43. Тридентский собор и его значение в укреплении католической церкви.
44. Религиозная и церковная политики испанского абсолютизма в конце XV– нач. XVII вв.
45. Складывание доктрины англиканства.
46. Реформация во Франции и причины религиозных войн.
47. «Молот ведьм».
48. Некоторые особенности социальной психологии населения Западной Европы в XVI в.
1. Гибель древней цивилизации
Древняя цивилизация достигла в Греции высокого развития.
Вероятно, мы знаем главные работы греческих математиков и астрономов. «Начала» Евклида в течение двух тысяч лет служили единственным источником подлинной науки, вместе с «Альмагестом» Птолемея, резюмировавшим греческую астрономию.
В V веке император Феодосий приказал уничтожить все скульптуры, поскольку они изображали, как он думал, языческих идолов. То, что до нас дошло, ускользнуло от внимания христианских фанатиков. Из всей греческой скульптуры осталось несколько повреждённых образцов; всё остальное — ремесленные копии. Труднее было уничтожить архитектуру: Парфенон сохранился до XVII века. В 1687 году турки, владевшие в то время Грецией, устроили в нём пороховой склад, а венецианцы, осаждавшие Афины, взорвали его артиллерийской бомбой; теперь мы видим лишь его руины. Это было уже после эпохи Возрождения, когда художественное значение Парфенона было хорошо известно, особенно в Италии.
В сущности, культура Древнего Запада — или «Античного мира» — была создана греками.
Римские плебеи так и не добились гражданского равноправия. Рим был, и остался после всех реформ олигархической республикой. Граждане голосовали по центуриям, так что каждая центурия имела один голос. При этом «центурии» были определены таким образом, что всадники и первый имущественный класс имели вместе 98 центурий, а остальные четыре класса, общим числом, 95.
Если не говорить о жалком продолжении Римской империи, об исторически бездарной империи со столицей в Византии, то конец Римского государства наступил в 476 году, когда германский вождь Одоакр упразднил фиктивную должность императора и принял на себя власть над Римом. К этому времени вся западная часть Римской империи была захвачена германскими племенами. Это и считается концом Древнего мира. Но причину его гибели надо искать в более ранних явлениях, обессиливших греко-римскую культуру. Силу её составляли свободные граждане греческих полисов и Римской республики, и эта сила исчезла, когда не стало свободных граждан.
Рабство погубило Римскую империю прямым и очевидным способом: воинская доблесть была утрачена вместе с привычкой к труду. Уже и раньше тяжёлые виды труда выполняли рабы, а затем и плуг, и меч стали тяжелы для «свободного» человека.
Рабство проще всего объяснить, рассматривая раба как «живую машину». Древние часто прибегали к такой терминологии, называя раба «говорящим орудием». В наши дни писатели-фантасты любят изображать общество, обслуживаемое роботами, и неизменно наталкиваются на те же конфликты, которые погубили древний мир. Вероятно, дешёвый рабский труд и был причиной угасания греческого гения. Конечно, учёный или художник имеет неэкономические стимулы деятельности. Но если личный труд считается недостойным свободного человека, то учёный не станет возиться с приборами в лаборатории, а направит свой ум по благородному пути интроспекции, пытаясь извлечь все знание из наблюдения собственных мыслительных процессов.
И всё же, потеря научной и технической изобретательности представляет величайшую загадку древнего мира. У греков эти способности угасли ещё до принятия христианства, в 1–2 веках новой эры. Складывается впечатление, будто они превратились в другой этнос; и в самом деле, они даже придумали себе другое название: в Восточной империи, которую мы называем Византийской, греки, продолжавшие говорить по-гречески и всегда остававшиеся доминирующей нацией, называли себя «ромеями», то есть римлянами.
Что же случилось с греками? Простейшее объяснение было бы в том, что их сделала такими христианская религия. В самом деле, эта религия была совсем непохожа на прежнюю. Прежде, во времена «язычества», не было особого сословия жрецов, и все сакральные церемонии выполняли в течение определённого времени люди из «благородных» семей. Не было никакой «теологии», и все сведения о богах приходилось получать от поэтов; каждый волен был рассуждать о религии, как хотел, и от гражданина требовали только формального выполнения некоторых обрядов. Христианская церковь, пришедшая с Востока, была создана еврейскими сектантами и несла на себе отпечаток еврейской культуры, впитавшей в себя к тому времени фантастические суеверия египтян и сирийцев.
Почти невероятно, что греки и римляне не применяли машин. В древности производство почти не было связано с наукой. Технология изготовления вещей выработалась в начале Античности, и по существу уже не менялась. В Римском государстве, существовавшем 1200 лет, производили, перевозили и продавали всевозможные вещи, но всегда применяли одни и те же убогие технические приёмы, требовавшие огромных затрат физического труда. Об этой инерции технического мышления много писали. Её объясняли, как уже говорилось выше, дешевизной рабов и предрассудками, унижавшими ручной труд. Древние вовсе не были бездарны в техническом отношении. Герон Александрийский придумал множество машин, в том числе прообраз паровой турбины, но все эти вещи были известны лишь как салонные игрушки. Кажется, некоторое применение получил только архимедов винт для подъёма воды. В древности не умели даже как следует запрягать лошадей: пользовались хомутом, сдавливавшим лошади горло и мешавшим ей везти груз.
Техническая инертность древних особенно удивительна в военном деле. Римляне, не знавшие ничего важнее войны, никогда не выдумали никакого нового оружия. Они заимствовали новую форму меча у галлов, новый тип дротика у испанцев. Даже их военная организация, по-видимому, столетиями не менялась: знаменитый римский лагерь оставался таким, как его описал Полибий. В течение трёх лет, с 215 до 212 года до новой эры, римская армия не могла взять Сиракузы, несмотря на подавляющее численное превосходство. Мешала им изобретательность одного человека: Архимед придумал множество военных машин. Полководец Марцелл якобы приказал сохранить ему жизнь, но римский солдат раскроил голову учёному, занятому решением задачи.
Может быть и верно, что римский вельможа, несомненно получивший греческое образование, хотел сохранить жизнь знаменитого мудреца. Но понимал ли он значение его изобретений? Как это ни странно, римляне ничего не пытались узнать у его учеников и никогда не применяли этих удивительных изобретений.
Я думаю, что главной причиной застоя в Древнем мире была психическая установка человека, не верившего в возможность что-нибудь изменить в ходе человеческих дел. Древний человек стоял на коленях перед историей. Греческий эксперимент свободы не удался, а римская система порабощения пришла к жалкому концу. Крепостные-колоны, сменившие свободных граждан, предпочитали власть варваров, ненавидя бюрократическую систему выродившейся империи. Отчаявшись в земном спасении, люди искали утешения в новой религии.
2. Сущность христианства
Наиболее важным событием древней истории, завершающим эту эпоху и начинающим Средние века, было возникновение христианской религии. В отличие от племенных религий древности, эта религия была универсальной: она обращалась к каждому человеку — бедному или богатому, свободному или рабу, независимо от его происхождения.
В конце Древнего мира возникло множество сект, происходивших преимущественно с Востока, где ещё со времени Александра Македонского вследствие смешения культур усилилось религиозное брожение. Одна из религий, возникшая ещё раньше, была универсальна в этническом смысле и предлагала принцип безграничной любви: это было учение Будды.
На языке психологии «спасение» означает психическое равновесие, которого уже не могли дать в то время старые религии. Города-государства Греции и Италии имели своих «общинных» богов-покровителей, принесённых предками с далёкой родины индоевропейцев. Но в эллинистическую эпоху греки расселились по всем странам Ближнего Востока, где выросли большие города с разноплеменным населением и развилось рыночное хозяйство. В Александрии, Антиохии, Иерусалиме, а потом и в самом Риме было множество бедных людей — ремесленников и торговцев, рабов и слуг, солдат и чиновников, наконец, как всегда в больших городах, просто бедняков, перебивавшихся случайными заработками.
Эта новая религия рождалась в больших городах, среди бедных людей разного происхождения.
Мы уже знаем, что дуализм «любви» и «ненависти» на биологическом языке расшифровывается как взаимодействие инстинктов — социального инстинкта и инстинкта внутривидовой агрессии — при участии других человеческих инстинктов.
Мы описали выше, как было нарушено равновесие между двумя великими инстинктами, сложившееся на Востоке в статическом сословном порядке. В обществе Древнего Запада это привело к непрерывной многовековой классовой борьбе, в которой богатые неизменно имели преимущество над бедными, поскольку они издавна контролировали государственные механизмы, владели материальными средствами и, наконец, могли получить дорогостоящее образование.
Римские патриции сумели перевести классовое недовольство на путь завоевательных войн, создав мировую империю, где римляне стали «расой господ». Эти люди обладали необычайным искусством управления, которое можно считать особым дарованием римлян; их подражатели, претендовавшие впоследствии на мировое господство, никогда не могли с ними сравняться. Но в интересующую нас эпоху завоевательный потенциал Рима был исчерпан, поставки рабов прекратились, и оба указанных выше средства не могли уже помочь. Бедные были разрознены: свободные презирали рабов, и племенные раздоры не позволяли им объединиться. Они были бессильны перед Римским государством, но ненавидели его и не хотели его защищать. Завоевателей они скорее приветствовали, что было важной причиной распада империи. Но вернёмся к эпохе зарождения христианства.
Представим себе психическое состояние бедного человека в древнем мире.
Гражданское общество того времени было построено на принципе вражды — как и то общество, в котором мы живём. В этом обществе человек мог любить только «близких» (откуда и происходит слово «ближний», получившее впоследствии более широкое значение; ср. английское neighbour). «Близкими» же могли быть только люди своего племени или своей общины, как это было с древнейших времён, и только люди сходного социального положения. На «близких» распространялись положительные эмоции; все остальные люди вызывали настороженность и подозрительность, нередко переходившие даже в мирных условиях в безудержную ярость, создавшую выражение «война всех против всех» (bellum omnium contra omnes).
Ненависть составляла основной фон жизни бедного человека. В таких городах, как Иерусалим, Антиохия, Александрия, было слишком много «чужих», и бремя ненависти было тяжко. К тому же, эта ненависть слишком часто была пропитана завистью: униженный мог внутренне предпочитать положение унижающего, подсознательно считая его лучше себя.
На пятьсот лет раньше перед той же проблемой стоял Будда, но он пришёл к другому решению. Поняв, что любовь и ненависть неразрывно связаны друг с другом, как полюсы магнита, Будда решил отключить весь этот «магнит желания». Тогда исчезнет ненависть и вообще всякое страдание: ничего не желая, человек обретёт душевный покой. Но тем самым буддийский святой перестаёт быть «нормальным человеком». Решение Будды — это уход от мира, акт отчаяния, признающий безысходное рабство этого мира.
К другому решению пришёл Христос: он «осудил» полюс ненависти и «оправдал» полюс любви. Он изобрёл фикцию всеобщей любви — в чём и состояло главное психологическое открытие Иисуса Христа. Как мы знаем, человек не способен любить — в прямом смысле этого слова — всех своих собратьев по виду. Социальный инстинкт требует от него лишь признания прав и достоинства других людей, но даже в первоначальной человеческой группе связь между индивидами не всегда можно было назвать «любовью». Человек не способен даже «прощать» своих ближних — если только он не особенный мудрец, отвечающий жалостью на поступки своего обидчика. Может быть, этого и хотел Христос. Но мудрецов мало, а требовалось решение для всех.
Для «простого» человека предложение Христа сводилось к тому, что ненависть «вытеснялась» в подсознание, в смысле Фрейда, а в сознании утверждалась фикция любви.
Для немногих людей, пытавшихся следовать заповедям Христа, церковь устроила монастыри, а для простых людей разработала упрощённый вариант его учения, нечто вроде христианской махаяны.
Глобализация социального инстинкта, совершенная христианской религией, была наиболее важным историческим событием. Конечно, она выражала настроение, сложившееся в многонациональных сообществах Римской империи, и могла в то время принять только религиозную форму. Единство человеческого рода и принципиальное равноправие всех людей не могли быть выражены ни одной из старых племенных религий, потому что у каждого племени были свои боги. Единому человечеству нужен был единый бог, не связанный с исключительными обычаями одного из племён. Тенденция к монотеизму давно уже проявлялась в различных языческих религиях. В них был обычно «верховный бог», уже объединивший в доисторические времена культы родственных племён, так что Амон-Ра почитался уже всеми египтянами, Зевс — всеми греками и Юпитер — всеми римлянами.
Далее, римские боги давно уже были отождествлены с греческими, а греческие цари Египта искусственно создали культ Сераписа, чтобы сблизить своих греческих подданных с коренным населением.
Другая сторона христианского вероучения, описанная выше и особенно важная для нашего исследования, это принятый им фиктивный способ удовлетворения человеческих нужд. Реальные потребности человека — не только материальные и эмоциональные, но больше всего потребность в развитии — на этом пути не могли быть удовлетворены. Об этом не умели даже думать: в античном мире, где было много выдающихся мыслителей, отсутствовало всякое представление об изменении общества сознательными усилиями людей. Более того, преобладало стремление укрепить и навсегда сохранить унаследованный от предков порядок. Поэтому греко-римская цивилизация была обречена на гибель, а человечество — на тысячелетнюю тьму.
3. Происхождение христианства
Христианство произошло из еврейской религии. Священное писание евреев — «Ветхий Завет» — было полностью включено в канон христианских священных книг, и авторы Евангелий всячески старались представить события «земной жизни» Христа как исполнение ветхозаветных пророчеств.
Сначала еврейский бог Ягве мало чем отличался от богов других семитических племен: это был строго племенной бог, потому что у каждого племени были свои боги, причём вначале «чужие» боги во принимались как вполне реальные, но враждебные существа. Как и другие боги древних семитов, Ягве долго сохранял черты восточного деспота: он был жесток, мелочно придирчив и мстителен, о чём свидетельствуют многие места Ветхого Завета. Но уже во время Давида и Соломона, то есть около тысячного года до новой эры, когда начала складываться библейская традиция, еврейский бог начал обнаруживать необычные свойства, отличавшие его от всех других богов. Прежде всего, он стал крайне нетерпим ко всем другим культам и захотел быть единственным «истинным» богом своего племени; вскоре он стал претендовать на ещё бoльшую исключительность, настаивая на том, что он вообще создатель и владыка всего мира, а другие боги не просто «чужие», а «ложные» боги, не настоящие, а поддельные. Идея монотеизма несомненно означала более высокий уровень религии, чем «языческие» представления о множестве по-человечески суетных и драчливых богов.
Далее, еврейский бог запретил себя изображать (и для большей надёжности — изображать всё живое). Это был тоже важный шаг в развитии религии, после того как люди перестали изображать своих богов в виде животных: теперь осуждалось любое идолопоклонство. Впоследствии христиане не удержались на этом уровне и стали всё-таки поклоняться изображениям — иконам и статуям. Наконец, Ягве запретил произносить своё имя; во всяком случае, на некоторой стадии развития его культа стали заменять его имя при чтении Библии другими словами — «господь», «повелитель» и так далее. Это было логическим следствием единобожия: ведь имя даётся тому, кого надо отличать от других. Теперь мы переживаем следующий этап духовного развития: подобно тому, как евреи отказались от имени божества, мы учимся строить наши переживания без понятия бога.
Дальнейшее развитие еврейской религии связано с великими мыслителями, получившими название «пророков израильских».
Как мы уже видели, Синайские заповеди отражают племенную мораль, свойственную всем человеческим племенам; поскольку они были записаны относительно поздно, в период формирования государства, истолкование их носило уже не столь узкий характер. Заметно, что расширилось понятие «ближнего». Общая формулировка заповедей не означает ещё, что они одинаково относились ко всем людям: по этому поводу ещё не было ясного понимания. В 19 главе книги Левит значение слова «ближний» как будто ограничивается собственным племенем: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Но в той же главе, среди всех ужасных угроз и наставлений карающего бога, мы читаем удивительные вещи: «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его.
Идей равного правосудия для всех людей развивает дальше пророк Исаия, за семьсот лет до Христа и за двести лет до Будды. Исаия хочет разделить со всеми людьми своё величайшее сокровище — своего Бога: «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить Господа, быть рабами его, всех, хранящих субботу от осквернения её и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою, и обрадую их в моём доме молитвы; всесожжения их и жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем; ибо дом Мой назовётся домом молитвы для всех народов» (гл. 56). А в самом начале, в главе 2, Исаия предвидит прекращение войн — правда, в «последние дни» и с помощью божьей: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».
В отличие от древней традиции всех народов, помещавшей Золотой Век в прошлом, Исаия переносит его в будущее; вот первая из всех утопий, где торжествует «социальная справедливость»: «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостию. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем, и не услышится в нём более голос плача и голос вопля. Там не будет малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний старец будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на гope; ибо будут семенем, благословенным от господа, и потомки их с ними.
В последней части пророчества прямо слышатся фантазии Фурье.
Это подлинное начало «утопического социализма», с прямым осуждением «социальной несправедливости»: «не будут строить чтобы другой жил, не будут сеять, чтоб другой ел». Мы не знаем, сколько других обличений этого рода скрыли от нас жрецы. Они не смогли скрыть их все. В ожидании «последних дней» Исаия хочет реформировать религию. По-видимому, его пророчества были слишком хорошо известны, и жрецы не решились тронуть выпад против них: «Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, — день, в который томит человек душу свою, когда гнёт голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, раздели с голодным хлеб свой, и от единокровного своего не укрывайся».
Через два века пророк Иезекииль подтверждает эти учения, по-видимому, уже широко известные в Израиле: «Если кто праведен и творит суд и правду… никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой даёт голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдаёт и лихвы не берёт, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он — праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог» (гл. 18). И в той же главе мы видим, как бог смягчает свои угрозы: «Вы говорите: «почему же сын не несёт вины отца своего?» Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив… И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет… Разве я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы обратился от путей своих и был жив?»
За пятьсот лет до Христа раввин Гиллель изложил новую для своей эпохи мораль в краткой заповеди: «Не делай ближнему того, чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе».
Несомненно, еврейские пророки выражали отчаяние и протест угнетённых. Мы знаем о них лишь то, что включили в Ветхий Завет осторожные жрецы, всегда державшие сторону богатых и сильных и не столь чувствительные к страданиям ближних, как раввин Гиллель. До нас дошли, главным образом, призывы к милосердию, но, по-видимому, социальные мотивы пророков были смягчены. Вероятно, самые откровенные из пророчеств касались и самих жрецов. То, что мы знаем из египетской и вавилонской литературы, содержит такие же проповеди милосердия, хотя и без утопических предсказаний. И, конечно, во всех случаях мы можем прочесть об этом лишь то, что передали нам люди, умевшие писать.
4. Учение Христа
Иисус, вероятно, не умел писать: во всяком случае, от него не осталось ни слова, написанного им самим. Утрачены и все еврейские тексты о Христе, что не так уж удивительно, поскольку первые христианские общины были истреблены или рассеяны после подавления восстаний; впрочем, ученики Иисуса были люди не книжные.
Есть, однако, причина, по которой церковникам трудно было скрыть самые известные высказывания Иисуса: они были настолько популярны среди верующих, что исключение их из «писания» означало бы прямой скандал. Их повторение в параллельных местах евангелий свидетельствует об их подлинности — во всяком случае, о подлинности переданной в них традиции. Мы будем ссылаться на эти высказывания, пользуясь новым переводом. 47 Сравнение с «кумранскими рукописями» показывает, что Иисус имел прямых предшественников в его время, и поддерживает истолкование, которое мы даем его словам.
С Христа начинается новая религия, обращённая не только к евреям, но и к «язычникам», хотя сам Иисус, как видно из евангельской истории, ещё колебался им проповедовать; ведь он сказал апостолам:
Матфей, гл. 10.
Но жребий был брошен, и новое учение быстро распространилось среди бедных и униженных всех народов.
Нет сомнения, что Иисус был на стороне бедных. Вот решающее место, которое я выписываю из Евангелия по Марку, послужившего, по мнению учёных, источником остальных:
— Почему ты называешь меня добрым? — сказал Иисус. — Один Бог добр. Ты знаешь его заповеди: не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не давай ложных показаний, почитай отца и мать.
— Учитель, я с юных лет соблюдаю всё это, — ответил тот Иисусу.
Иисус взглянул на него, и он сразу ему полюбился. Иисус сказал: Одного тебе не хватает. Иди, все продай, что у тебя есть, и раздай бедным. Тогда твоё богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за Мной.
Но тот помрачнел от этих слов и ушёл печальный: он был очень богат. Иисус, оглядевшись, сказал ученикам: Как трудно богатым войти в царство Бога!
Учеников изумили его слова. Но Иисус повторил: Дети, как трудно войти в Царство Бога! Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу.
Гл. 10.
По Евангелию, сам Иисус был сын плотника, и все его ученики были бедные люди. Мы не знаем ничего достоверного об Иисусе и апостолах, но люди, писавшие Евангелие, несомненно отразили настроения первых христиан. Наиболее важной частью учения Христа считается Нагорная проповедь, содержащаяся в Евангелиях от Матфея и от Луки.
Вот это место в нецерковном переводе; мы берём его из более полного в этом случае Евангелия от Луки (гл. 6, ст. 20–26):
И напротив, горе вам, богатые! Вы уже натешились вдоволь. Горе вам, кто сыт теперь! Вы будете голодать. Горе вам, кто смеётся теперь! Вы будете рыдать и плакать.
В оригинале эти стихи имеют отчётливую ритмическую структуру, как и во многих местах Евангелий; она выделена в переводе расположением текста. Все поучение делится на две половины, противопоставленные друг другу с помощью формальных сравнений: первая говорит о бедных, вторая о богатых, и всё сказанное о первых противоположно сказанному о вторых. Первым обещана на небесах награда, вторым — рыдания и плач; первые следуют за Иисусом и подвергаются за это гонениям и унижениям, вторые же «хвалят лжепророков» и не приемлют учения Христа. Ясно, что «богатые» во второй половине поучения (в церковном переводе просто богатые, а не «богатые духом!») — это богатые в обычном смысле: они «сыты теперь» в смысле телесной, а не духовной пищи. Но тогда в антитезе — в том, что говорится о бедных — никак не могло быть «нищих духом»: если истолковать их «голод» и «насыщение» как «духовный голод» и «духовное насыщение», то выходит, что Иисус противопоставляет материально богатым и телесно сытым «нищих духом», то есть необразованных и неумных.
Автор проповеди (выступающий под именем Луки) очень тщательно все это построил, а редактор-церковник все неуклюже разрушил. Далее, если сравнить Евангелия от Луки и Матфея, то бросается в глаза ещё одно расхождение. В церковном переводе Луки, вслед за изречением «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть царствие небесное», внезапно речь идёт о материальной нужде: «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь». Между тем, в том же церковном переводе Матфея дважды говорится о нужде духовной: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», а затем: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Очевидно, «Матфей» обращался к не столь бедной общине и должен был произвести отнюдь не случайную корректировку дошедшей до него проповеди.
Подлинное настроение, выраженное или искажённое Евангелиями, не вызывает сомнений: Нагорная проповедь обращена к бедным, а богатые над ней смеются. Она очень похожа на другие дошедшие до нас проповеди того времени, не связанные с Христом. Церковь, ставшая организованной иерархией и стремившаяся занять доминирующее положение в империи, добивалась поддержки богатых и знатных и тяготилась уже своей репутацией религии бедняков. Поэтому она подвергла христианскую литературу строгой цензуре, сохранив (в отредактированном виде) лишь четыре «канонических» Евангелия и истребив все другие. Эти другие Евангелия принято называть «апокрифическими», то есть «скрытыми» или «тайными», и мы знаем из них лишь случайно уцелевшие отрывки. Впрочем, по этим отрывкам можно судить, чтo содержалось в отверженных Евангелиях. Например, некоторые сектанты составляли троицу из Отца, Матери и Сына, как это было во многих троицах восточных религий; известно, что «дух», из которого сделали «Святого Духа», по-еврейски женского рода («руах»).
В официальном тексте Нового Завета, в Послании апостола Иакова говорится:
Гл. 5, ст. 1–6.
Эти «вопли жнецов» не удалось устранить из народной традиции, обработанной «Священным Писанием».
Но у вас пусть будет не так!
Это знакомый мотив: мы встретились с ним ещё у восставших рабов Египта; он повторяется у Матфея (гл. 19): «Многие, кто были первыми, станут последними, а последние — первыми». Невозможно сомневаться, откуда взялась строка «Интернационала»: «Кто был ничем, тот станет всем».
Многое другое, что уже нельзя было устранить из писания, не идёт к образу кроткого проповедника из Галилеи:
Не мир пришёл Я установить,
Матфей, гл. 10.
Огонь пришёл Я принести на землю
Лука, гл. 12.
Лука, гл. 12.
А вот совсем странное место, ускользнувшее от внимания цензоров: «Пусть тот, у кого есть деньги, возьмёт их, пусть возьмёт и суму, а у кого нет, пусть продаст свою одежду и купит меч» (Лука, гл. 22). И в самом деле, апостол Пётр, воспользовавшись мечом, отрубил ухо одному из чиновников, присланных арестовать Иисуса. Возможно, апостолы носили под одеждой оружие. Галилея считалась у евреев мятежной страной, во многих местах Евангелий видно, что в Иудее галилеян попросту считали разбойниками. Прежде чем разрушить храм, римлянам пришлось подавить яростное восстание Галилеи.
Вся история Иисуса и его изречения были подвергнуты такой же обработке, как история нашей революции после истребления революционеров.
* * *
К началу «новой эры» в Древнем мире исчезли последние остатки свободы. В Римской империи, где народы были намеренно разрознены по принципу divide et impera — «разделяй и властвуй» — даже восставшие рабы, как показала история Спартака, не могли сохранять единство, а «свободные» бедняки презирали рабов и помогали удерживать их в повиновении. В этих условиях бедный человек был беспомощен и не думал, что может что-нибудь сделать для улучшения своей судьбы. Поскольку он не был уже в статическом равновесии патриархального общества, он страдал от конфликта с окружающим миром, не находя выхода из эмоциональных противоречий. Единственно доступным ему объяснением мира была религия: только на путях религии он искал «спасения», то есть психического равновесия. Все его надежды связывались с действием сверхъестественных сил.
Но «официальные» религии того времени мало обещали человеку, как отдельной личности: они возникли как племенные культы, служившие племени, потом полису — городу-государству, и, наконец, огромной, чуждой отдельному человеку военно-бюрократической империи.
Неудивительно, что наряду с загробным воздаянием люди мечтали о земном. Потребность в хлебе насущном была слишком сильна, чтобы её можно было отложить: Иисус проповедовал голодным. И Христос обещал им Второе Пришествие очень скоро: в царство Бога, говорил он, войдут не отдалённые потомки слушателей, а некоторые из них самих. В Евангелии от Марка Иисус заверяет их: «Верно вам говорю: есть среди тех, кто стоит здесь, люди, которые не успеют узнать смерть, как увидят, что Царство Бога явилось в полной силе» (гл.
Святой Иреней сохранил для нас следующий отрывок из его сочинения:
И когда кто-либо из святых сорвёт гроздь, другая закричит: «Я лучше её, сорви меня и возблагодари мной Господа».
Точно так же каждое зерно родит десять тысяч колосьев, всякий колос — десять тысяч зерен, а все зерна дадут по пять двойных фунтов муки. И прочие фрукты, семена, травы будут множиться в соответствии с их пользой.
И все животные, которые кормятся исключительно пищей от плодов земли, будут жить в мире и согласии между собой и будут целиком послушны и покорны человекам.
Иреней, Против ересей.
Иреней говорит: «Таково свидетельство Папия, ученика Иоанна, сотоварища Поликарпа, древнего мужа, в четвёртой из пяти его книг». И он добавляет к сказанному: «Всё это кажется вполне правдоподобным тому, кто верует. А поскольку Иуда — предатель и не верил и спрашивал, как это подобное плодородие возможно на деле, Господь отвечал: «Увидят это те, кто войдёт в Царство».
Таковы источники социализма, хорошо известные историкам и давшие начало бесчисленным ересям, вплоть до последней ереси христианства — марксизма.
Один из друзей молодого Маркса, поэт Генрих Гейне изображает идеал социализма, рождавшийся у него на глазах, в котором трудно не узнать то же Тысячелетнее царство:
И дальше поэт, по свойственной ему непочтительности к авторитетам, прибавляет:
Эта поэма — «Германия, зимняя сказка» — написана в 1844 году, на самой заре социализма; слово «социалист» впервые появилось в печати в 1827 году, а слово «социализм» — в 1843. Перед нами свидетельство о рождении, выданное очевидцем.
5. Церковь и Тёмные века
Наследие древности
Евангелия представляют собой фольклор ранних христиан, записанный малообразованными людьми, — это было движение, шедшее снизу, из угнетённых, отчаявшихся масс. Но навстречу ему шло, повинуясь логике своего мышления, движение сверху, из самых просвещённых общественных групп.
Политеизм, мало дававший уму и сердцу простого человека, изжил себя и в психической жизни образованных людей, и случилось это уже давно. Ф. Маутнер говорит об этом в своей «Истории атеизма» 49: «На исходе древности, в эпоху возникновения христианства религиозные представления образованных людей состояли примерно в том, что легче верить в единого сверхчеловеческого правителя мира, чем во многих богов; а этого единого правителя мира было уже легче устранить.
За четыреста лет до Христа изображённый Платоном Сократ говорил уже о боге в единственном числе и склонен был верить в загробную жизнь, хотя и не без сомнений. Конечно, в то время такие понятия были уже обычны среди образованных греков. С ними согласны были главные философские школы, особенно школа стоиков. Стоическая философия господствовала в греко-римском мире почти триста лет, с I века до новой эры. Стоики разделяли также многие этические убеждения христиан: признавали принципиальное равноправие всех людей, обязанности по отношению к «ближним», и руководствовались внутренним нравственным чувством, оправдывающим или осуждающим человеческие поступки.
После эпохи Антонинов популярной философией стал неоплатонизм. «Отцы церкви», давшие направление христианскому богословию, получили образование у платоников; Платон и определил весь облик богословия. Рассел исследовал роковое влияние философии Платона на человеческое мышление, тысячу лет возившееся с бесплодными абстракциями.
Христианская церковь
Средние века отличались от эпохи «первичного порабощения», какое было на Древнем Востоке, существенно новым элементом жизни: религией нового типа. У этой религии был только один бог, не терпевший никаких соперников; у неё была церковь — организация жрецов, не имевшая аналога ни в какой другой религии; и у неё была детально разработанная доктрина, изложенная в письменном виде.
Но это развитие опиралось на технические навыки греческой философии, принявшей в поздней Античности схоластический характер. Христианская теология была причудливым сооружением из еврейского материала, с цементом из декадентской греческой философии.
Роль церкви в истории разума была двойственной. Поскольку церкви надо было хранить и передавать новым поколениям «священное писание», она была заинтересована в обучении грамоте священнослужителей; кроме того, грамотность давала клирикам значительные преимущества при дворах варварских королей, где требовались дипломаты и юристы. В течение ряда столетий священники — а точнее немногие из монахов — были единственными грамотными людьми в Европе; монахи, обязанные переписывать священные книги и сочинения отцов церкви, иногда переписывали также каких-нибудь других латинских писателей. Таким образом церковь сохранила, большей частью невольно, то немногое, что мы знаем о классической древности.
Но церковники боялись образования, особенно образования мирян, потому что само священное писание было источником всех ересей. Библию намеренно не переводили на новые языки, и все богослужение велось на непонятной людям латыни, что, впрочем, только усиливало благоговение верующих.
Древние были суеверны: даже образованные люди, не веровавшие в официальных богов, прибегали к гаданиям и боялись примет, а простые люди жили в постоянном страхе перед нечистой силой, так как все народы имели своих злых духов, приносивших всевозможные бедствия. Сам Христос, если верить евангельским рассказам, опасался злых духов и предостерегал от них своих слушателей. Церковь, всегда применявшаяся к представлениям своей паствы, впитала в себя эти суеверия, впрочем, нисколько не чуждые её пастырям, тоже детям своего времени. Более того, церковь сохранила и веру в языческих богов, превратив их в дьяволов: неверие в этих новых дьяволов очень скоро стало считаться ересью. Постепенно церковь построила из всех народных суеверий систематическое учение о «нечистой силе» — демонологию, или религию дьявола.
По существу, в те века, когда христианская религия была сильна, когда во всей Европе не было неверующих, это была религия с двумя богами, добрым и злым. Прообразом такой религии была персидская, в которой вся мировая драма описывалась как борьба между Ормуздом, носителем света, и Ариманом, возглавляющим силы тьмы. Эта концепция жизни была подхвачена сектой манихейцев. Церковь жестоко подавила манихейскую ересь, но сама впала в неё и не могла от неё избавиться, пока Просвещение не устранило с исторической сцены сначала её дьявола, а потом её бога.
Нам трудно представить себе психическую жизнь средневекового человека, воспринимавшего в раннем детстве фантастические представления христианской религии и — в отличие от нынешних «верующих» — принимавшего эти представления всерьёз. Этот человек видел в окружающем мире прямое действие сверхъестественных сил — божественного Провидения, и ещё больше Дьявола. В его сознании вредоносному влиянию Дьявола и его приспешников, ведьм и колдунов, противостояла магическая сила молитв и заклинаний, подтверждаемая чудесами. Чудеса, как он верил, творит сам бог, или более доступная человеку богоматерь, или посредники между богом и человеком — святые. Твердая вера в чудеса, продолжавшаяся больше тысячи лет и постепенно исчезнувшая в Новое время, нуждается в объяснении: может быть, это самая непонятная для нас особенность средневекового человека.
Чудеса стали теперь камнем преткновения для христианских церквей.
Культура, которую раньше называли христианской, а теперь часто называют средневековой, кажется примитивной и статичной: мышление людей подчинялось в ней застывшим догмам религии, а материальные потребности удовлетворялись традиционным ручным трудом.
С этим обострением внутренней жизни человека было связано и наиболее важное изменение человеческой психики — вера в загробное существование или, как говорили верующие, в «бессмертие души».
Конечно, страх смерти и раньше приводил к фантастическим надеждам её избежать. Но особая сосредоточенность на «загробной жизни», какая была в древнем Египте или в средневековой Европе, должна рассматриваться как невротическая эпидемия: Фрейд рассматривал религию вообще как коллективный невроз человечества, и эта точка зрения, при её очевидной недостаточности, заслуживает внимания как эвристический подход к пониманию человека.
Возникает вопрос, каким образом «отцы церкви» — несомненно, самые способные и образованные люди своего времени — могли соорудить это тысячелетнее царство тьмы. Интересы церкви, как мы видели, определили хитроумную политику её «отцов», но не следует думать, что сами они были циничные комбинаторы, сознательно обманывавшие публику.
По сравнению с классической греческой культурой это была эпоха глубокого упадка. Ко времени «отцов церкви» от неё осталось несколько почитаемых, но почти не читаемых книг, а образование свелось к банальным абстракциям и риторическим упражнениям позднего платонизма: резко снизился технический уровень мышления. Но это снижение началось задолго до начала «христианской эры». В действительности уже V век до новой эры, век расцвета афинской демократии, был временем упадка греческой мысли.
Платон и Аристотель, символизировавшие древнюю мудрость в течение Средних веков, представляли уже реакцию против научного мышления. В Афинах IV века пытались применить наукообразные подходы к тому, что мы назвали бы психологией и социологией, путём не подходящих к этим предметам умозрительных построений.
«Отцы церкви» изучали философию Платона у его эпигонов, когда этой философии было уже пятьсот лет. Это значит, что мышление древнего мира пятьсот лет пережевывало одно и то же.
Выражение «Тёмные Века» вызовет возражения у современных историков. Эти историки, не различающие порядки величин, будут настаивать, что и в Средние века не все было темно. С таким же успехом можно отрицать, что ночью бывает темно, а днём светло; этому банальному суждению можно противопоставить много случаев, когда днём бывает не так уж светло, а ночью не очень темно. Но нельзя не видеть, что на месте погибшей древней цивилизации возникло примитивное общество, сплошь неграмотное, где почти прекратились промышленность и торговля, и где подавляющая масса населения находилась в крепостном рабстве. В 800 году новой эры Карл Великий был неграмотен, и через тысячу лет после Архимеда простая арифметика была трудным делом — так и говорилось: «Трудное дело — деление».
* * *
Церковь и частная собственность
Частная собственность всегда была камнем преткновения для церкви.
Церковь и не пыталась это делать. Она должна была считаться с частной собственностью, как с основным фактом общественной жизни — и церковь её приняла. Церковная иерархия стала частью государственной власти, а власть принадлежала собственникам; да и сама церковь превратилась в крупнейшего собственника. Но, с другой стороны, церковь не могла порвать со своим источником — с первоначальным христианством, решительно осуждавшим частную собственность. Отказ от собственности был условием вступления в апостольскую общину, и все общины первых христиан имели общее имущество.
Крайности Нагорной Проповеди надо было примирить с действительностью, и церковь пошла на уступки человеческой слабости, сохранив свой высокий идеал для праведников. Праведники давно уже образовали общины, отрекшиеся от мира и посвятившие себя делам спасения. Церковь упорядочила эти общины, превратив их в монастыри. Монахи демонстрируют обыкновенным верующим, в чём состоит христианский идеал: у них нет ни собственности, ни семьи.
Что касается мирян, то христианская церковь взяла на себя функцию «умиротворения» социального конфликта: она выразила принципиальное осуждение богатства и власти, поддержав человеческое достоинство бедных тружеников, и в то же время направила их надежды на потустороннее воздаяние, предписывая «воздавать кесарево кесарю, а божье богу». Эта общественная роль церкви, содержавшая очевидное противоречие, соответствовала роли, которую ей предстояло выполнять в новом классовом обществе Средних веков. Церковь освятила новое порабощение человека варварами-завоевателями, внушив угнетённым извращённую, но логичную в контексте христианского смирения доктрину Павла из Тарса: «Нет власти не от Бога».
Величайшей заботой каждого христианина, особенно в трудные дни жизни и перед смертью, было спасение души, что зависело от церкви, державшей в своих руках отпущение грехов. Наконец, в Средние века, когда религия была неизменной спутницей человека от колыбели до гроба, сложились те «моральные правила», на которых до сих пор основывается человеческое поведение. Моральный кодекс поведения, внушаемый человеку в детстве, всё ещё остаётся христианским, даже если родители отроду не были верующими: такова сила культурной традиции. Консерваторы всех времён хорошо понимали важность старых правил. О них заботился ещё божественный Платон: «Если мы потеряем эти правила, — сокрушался он, — то где и у кого возьмём мы другие?»
Мы все знаем эти правила, в основном воспроизводящие уже известные нам правила племенной морали. Их христианский характер, по сравнению с описанным в главе 3, состоит в глобализации этой морали, которая у христиан относится — или должна относиться — ко всем людям.
Средневековый феодальный строй был гораздо дальше от рыночного хозяйства, чем торгово-промышленный уклад Римской империи, не говоря уже о нынешнем капитализме. Таким образом, «моральные правила» современного человека сложились в условиях, разительно непохожих на современную жизнь.
Чему же учила религия в то время, когда она в самом деле владела мыслями и чувствами людей? Эрих Фромм напоминает об этом в своей книге «Бегство от свободы» Примечания»>52: «Для понимания позиции индивида в средневековом обществе важны этические взгляды на экономическую деятельность, выраженные не только в учениях католической церкви, но и в светских законах». И дальше Фромм цитирует книгу историка Тони «Религия и развитие капитализма» 53. В основе экономической жизни, — говорит Тони, — лежали два основных принципа: «Экономические интересы подчинены подлинному делу жизни, каковым является спасение души; и экономическое поведение — всего лишь одна из сторон поведения человека, над которой, как и над другими её сторонами, стоят связывающие её моральные правила».
Затем Тони описывает, каковы были эти «моральные правила», то есть как смотрели в Средние века на экономическую деятельность: «Материальные блага необходимы; они имеют служебное значение, поскольку без них люди не могут существовать и помогать друг другу… Но экономические мотивы подозрительны.
Стремиться к большему — это не предприимчивость, а жадность; жадность же — это смертный грех. Торговля законна: различные произведения разных стран свидетельствуют о том, что она была предусмотрена Провидением. Но это опасное занятие. Человек должен быть уверен, что делает это для общего блага, и что получаемая им прибыль — не более чем плата за его труд. Частная собственность — необходимое учреждение, в этом падшем мире; люди больше работают и меньше ссорятся, если блага находятся в частном владении, чем если они принадлежат им совместно. Но это можно лишь терпеть как уступку человеческой слабости, а не приветствовать, как нечто желательное само по себе. Идеал же — если только человек может до него возвыситься — это коммунизм. «Communis enim, — писал Грациан в своём «Декрете» — usus omnium quae sunt in hoc mundo, omnibus hominibus esse debuit». 54 И в самом деле, владеть имуществом было по меньшей мере хлопотно.
К этому Фромм добавляет: «Хотя здесь выражаются лишь нормы, не дающие точной картины экономической жизни, они в некоторой степени передают подлинный дух средневекового общества».
В средневековой Европе почти не было рыночного хозяйства. За редкими исключениями, хозяйство было замкнутым: нужные продукты и изделия производились в пределах того же имения или того же города, где они потреблялись. Ремесленники были объединены в цехи, имевшие исключительное право заниматься в данной местности некоторым видом труда. Цех устанавливал «справедливые» цены на изделия, обязывая своих членов сообщать, где и почем они покупают сырье; цех контролировал количество и качество продукции, регулировал взаимные отношения и претензии.
* * *
В эту жестокую, бесконечно долгую в своей умственной неподвижности эпоху воспитывались идеи гуманизма — в фантастической оболочке христианской «любви к ближнему». В действительности эти идеи были вполне привычны уже греческим и римским философам, последователям Зенона и Эпикура. Бессмысленно спрашивать, нужна ли была еврейская религия, нужно ли было переселение германских племён. История была случайным процессом, и оставалась им до настоящего времени. Конечно, весь конкретный ход событий вообще объяснить нельзя, потому что для этого понадобилось бы утраченное знание о прошлом.
Как и в древности, в Средние века поведение человека определялось его инстинктами, и в основе его лежали те же правила племенной морали. Форма их проявления зависела от культуры. «Социальная справедливость» была по-прежнему предоставлена попечению сверхъестественных сил, но вместо шумерской богини Нанше призывали на помощь христианскую богоматерь.
Неподвижность средневековой жизни делала весь её строй глубоко чуждым нашей современной культуре. Можно было бы подумать, что средневековый человек смирился со своим порабощением. Но всё же, протест против социальной несправедливости не угасал и в Средние века. Время от времени социальное равновесие всё же нарушалось, и чрезмерное угнетение вызывало взрывы восстаний. Французские крестьяне не могли примириться с привилегиями дворян — по их представлениям, захватчиков, «пришедших с королем Франком». Они были глубоко проникнуты идеей врождённого равноправия всех людей. Крестьяне, восставшие во время «Жакерии», пели: «Мы такие же люди, как они, Мы так же храбры И так же можем страдать».
Такие же представления были у английских крестьян, восставших под предводительством Уота Тайлера. Вот что говорил им мятежный священник Джон Болл: «Добрые люди, — Плохо идут дела в Англии, и так всегда будет, пока все блага не станут общими, пока не станет ни крепостного, ни джентльмена, пока все мы не станем равны. По какому праву эти люди, которых мы называем лордами, отнимают у нас все лучшее? Чем они это заслужили? Почему они держат нас в рабстве? Раз все мы произошли от одного отца и одной матери, от Адама и Евы, как могут они говорить и доказывать, что они б`oльшие господа, чем мы? Разве что тем, что они заставили нас работать на них и делать все им на потребу. Они одеваются в бархат и одежды, украшенные горностаем и мехом, а мы носим грубые ткани. У них вина, пряности и хороший хлеб, а нам достаются ржаной хлеб, отруби, солома и вода. У них дворцы, красивые поместья, а на нашу долю приходятся заботы и труд, мы должны выносить на полях дождь и ветер. И вся их роскошь происходит от нас, от нашего труда».
В начале XVI века — заключительным аккордом Средних веков — прогремела потрясшая Германию крестьянская война. Восставшие крестьяне выступали под знаменем евангельского христианства.
* * *
Наследие Средних веков для нас все ещё важно. Культура, прежде называвшаяся «христианской», теперь именуется «европейской», или «западной». Люди давно утратили веру, не принимают всерьёз ни бога, ни дьявола и не беспокоятся о загробном воздаянии. Но «моральные правила», сохранившиеся в законах и обычаях, по-прежнему носят отпечаток христианства. Люди не знают никаких других. В частности, рыночное хозяйство предполагает соблюдение тех же моральных правил — правил, возникших в глубоко чуждом нам обществе Средних веков. Иначе говоря, от дельца требуется некоторый минимум «честного поведения», но не слишком много такого поведения, если он хочет остаться дельцом. В самом деле, главным мотивом бизнеса является жадность, порождённая нищетой. Христианство осуждает жадность, но мирится с нищетой.
Наши предки думали, что «честное поведение» невозможно без религии. Но честность древнее религии: в основе её — социальный инстинкт, который возник задолго до рынка и, конечно, переживет его, в более высокой культуре будущего.
|
показывать: 1—10 из 53
прямая ссылка 28 ноября 2021 | 00:40
прямая ссылка 06 марта 2021 | 15:36
прямая ссылка 13 января 2021 | 11:27
Стать лучшим в своём деле
прямая ссылка 25 сентября 2019 | 22:35
Рассмешить Авиценну
прямая ссылка 16 мая 2019 | 16:27
прямая ссылка 03 мая 2019 | 09:42
Kак современный кинематограф переписывает историю.
прямая ссылка 28 апреля 2016 | 11:48
прямая ссылка 22 февраля 2016 | 15:05
Сказочник режиссер снял фильм о хороших евреях
прямая ссылка 31 декабря 2015 | 11:35
Фильм про то, как один юноша горы с места решил сдвинуть
прямая ссылка 28 декабря 2015 | 15:01 показывать: 1—10 из 53 |
Исторические лица Англии
Исторические лица Англии
| А |
Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р |
С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш-Щ | Э | Ю | Я |
Выдающиеся деятели Елизаветинской эпохи
Елизавета I
Тюдор (Elizabeth I) (1533-1603), королева Англии с 1558
года.
+ + +
Аллейн, Эдвард (1566-1626). Знаменитый актер, не связанный с
театром Шекспира, также был известен как укротитель львов и медведей. Однажды он
продемонстрировал свой талант укротителя Якову I. В 1619 году пожертвовал
значительную сумму на основание школы в лондонском предместье Далич (Dulwich
College). Часть этих денег составляли доходы с домов терпимости, которыми он,
подобно своему тестю Филипу Хенслоу, владел в театральном квартале столицы. (Сюами
А. Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 330).
Анна Болейн (1501-1536). Жена
Генриха VIII. Мать Елизаветы I.
Арминий Якоб (1560-1609),
голландский теолог, радикальный критик кальвинизма.
Бабингтон, Энтони (1561-1586). Дворянин из Дербишира,
активный сторонник Марии Стюарт. Сблизился с иезуитами, приезжавшими в Англию с
целью обеспечить побег бывшей шотландской королевы, однако оказался
разоблаченным благодаря службе Уолсингема. Бабингтон был обвинен в покушении на
убийство королевы и приговорен к ужасной казни, полагавшейся за предательство и
покушение на особу монарха. Одним из последствий суда над Бабингтоном стало
ускорение судебных процедур, приведших к осуждению Марии Стюарт. (Сюами А.
Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 330-331).
Бёрбедж, Джеймс (1530-1597). Актер, импресарио, строитель
театров и театральный режиссер. Происхождение Бёрбеджа неизвестно. Учился на
плотника и столяра. Влекомый своим интересом к театру, стал актером, затем,
вернувшись к своей первой профессии, построил в лондонском предместье Шордич на
северном берегу Темзы театр, носивший название просто «Театр», бывший, вероятно,
первым зданием в Англии, специально предназначенным для драматических
постановок. До этого театральные пьесы игрались в тавернах, в замках, в
университетах, на площадях перед церковью и в других местах, где труппа могла
устроить представление на глазах у публики. (Сюами А. Елизаветинская Англия
/ Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 331).
Бёрбедж, Ричард (ок. 1567-1619). Сын Джеймса Бёрбеджа,
знаменитый актер, специализировавшийся на исполнении главных ролей, очень часто
играл в пьесах Шекспира, например в «Гамлете». Принял активное участие в
строительстве театра «Глобус», возведенного на южном берегу Темзы с
использованием материалов, оставшихся после разрушения театра его отца. Бёрбедж
также был талантливым художником. (Сюами А. Елизаветинская Англия / Анри
Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 331).
Бёрд, Уильям (ок. 1543-1623). Органист и композитор, работал
во всех жанрах, а также писал для солистов и хоров, органа и различных
инструментов. Будучи приверженцем католицизма, не избежал проблем и штрафов,
которыми были обложены католики, однако Елизавета, ценившая его музыку, взяла
его под свою защиту. Продолжал сочинять мессы на латинском языке даже в те
периоды, когда в народе обострялось недоверие к приверженцам католицизма. Наряду
с произведениями Таллиса и Доуленда музыка Бёрда продолжает исполняться в
Великобритании, а иногда и за ее пределами, и по сей день. (Сюами А.
Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 331-332).
Бертон, Роберт (1577-1621). Священнослужитель,
опубликовавший в 1621 г. свою «Анатомию Меланхолии», больше похожую на трактат о
морали или же на литературную фантазию, чем на серьезное произведение по
психологии. Этот трактат был опубликован при Якове I, в отличие от упомянутой
выше работы Тимоти Брайта. Меланхолия была одной из важных тем елизаветинской
культуры, а книга Бертона была написана многословным, несколько беспорядочным
стилем, проникнутым безудержным юмором, так что ощущалось влияние Франсуа Рабле,
поэтому этот трактат по духу следует отнести к предыдущей эпохе. (Сюами А.
Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 332).
Блаунт, Чарльз, барон Маунтджой (ок. 1562 — 1606). Пришел на
смену Эссексу в роли наместника Ирландии. Относился к ирландцам с презрением и
вел себя по отношению к этому народу очень жестоко, однако проявил себя
значительно более компетентным наместником, чем его предшественник. Победа
Блаунта над Тироном и его испанскими союзниками в 1691 году привела к
окончательному завоеванию острова и установлению английского господства. До
своего назначения на пост наместника Блаунт сражался с испанцами в Нидерландах.
Его любовницей была сестра Эссекса Пенелопа Деверё, супруга лорда Рича. Когда
Рич развелся с супругой, Блаунт сочетался браком с Деверё. (Сюами А.
Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 332).
Блитман, Уильям (Джон) (ок. 1525-1591). Органист, дирижер и
композитор, сменил Томаса Таллиса на должности органиста Королевской капеллы.
Только пятнадцать из его органных произведений дошли до наших дней благодаря
изданной органистом Томасом Муллинером (ок. 1520—1590) антологии, точная дата
публикации которой неизвестна. Учеником и преемником Блитмана был Джон Булл. (Сюами
А. Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 333).
Болейн Анна (1501-1536). Жена
Генриха VIII. Мать Елизаветы I.
Брайт, Тимоти
(1551-1615). Врач, автор «Трактата о меланхолии» (1586 г.)
Бэкон, леди Анна (1528-1610). Дочь Энтони Кука (1505—1576),
супруга Николаса Бэкона, мать Фрэнсиса Бэкона. Выступала против считавшихся
неокатолическими веяний в англиканской религии. (Сюами А. Елизаветинская Англия
/ Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 334).
Бэкон, сэр Николас (1509-1579). Отец Фрэнсиса Бэкона, шурин
Уильяма Сесила *, юрист, занимал важные административные должности при Генрихе
VIII. Несмотря на свою приверженность протестантской вере, не был отстранен от
должности при Марии I. Бэкон и Сесил были главными действующими лицами в
установлении англиканства в 1560 году. Примечания: * Вильям Сесил был женат на
Милдред Кук — сестре супруги Николаса Бэкона Анны. — Примеч. пер. (Сюами А.
Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 334).
Бэкон, Фрэнсис (Bacon, Francis) (1561–1626), барон Веруламский, виконт
Сент-Олбанский, английский государственный деятель, эссеист и философ.
Булл, Джон, Хорист, органист, композитор — прежде всего
автор сочинений для органа, профессор музыки в Грэшем-колледже в Лондоне.
Приверженность Булла католической вере, а также его беспутная жизнь привели
к тому, что он отправился жить за границу. (Сюами А. Елизаветинская
Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 335).
Вильгельм I Оранский (Willem
van Oranje) Молчаливый (1533-1584), деятель Нидерландской революции.
Генрих VIII Тюдор (Henry VIII
Tudor) (1491-1547), английский король с 1509 года, отец Елизаветы.
Говард, сэр Томас (1561-1626). Сын казненного в 1572
году герцога Норфолка, мореплаватель, деятельно участвовавший в операциях
против Непобедимой армады. Командовал флотилией, разбитой испанцами около
Азорских островов в 1591 году. (Сюами А. Елизаветинская Англия / Анри
Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 338-339).
Гренвилл, сэр Ричард (ок. 1542-1591). Мореплаватель и
корсар, постоянно атаковал испанские суда. Погиб на своем корабле «Ревендж»
(«Месть») во время печально известного сражения с испанской флотилией у Азорских
островов в 1591 году. (Сюами А. Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.:
Вече, 2016, с. 338).
Грин, Роберт (1558-1592). Плодовитый автор литературных
произведений всех жанров, прожил бурную жизнь и умер в нищете. Особенно известен
тем, что в написанном на смертном одре памфлете он нападает на своего конкурента
— драматурга, в котором угадывается Шекспир. Грин называет его «потрясателем
сцены» (Shake-scene) * , а также «выскочкой-вороной, украсившей себя нашими
перьями». Примечание: * Игра слов, основанная на том, что фамилия Шекспир
буквально переводится как «потрясатель копья» (Shake-spear). – Прим. пер. (Сюами
А. Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 337-338).
Гриндел, Эдмунд
(1519-1583), епископ Лондона в 1559 году, архиепископ Йоркским в 1570 году и
Кентерберийским в 1575 году.
Грэшем, сэр Томас
(1519-1579). Знаменитый финансист, считавшийся самым богатым простолюдином
своего времени.
Дадли, Амброз, граф Уорик (1528—1590). Благодаря
благосклонности королевы к его брату
Роберту, Дадли получил графство Уорик в 1561 году. Кроме
того, через год Елизавета доверила ему возглавить военную операцию в
Нормандии, закончившуюся, несмотря на взятие Гавра, поражением. В 1569
году Амброз Дадли отправился сражаться с восставшими католиками на севере
страны. В своем графстве покровительствовал пуританам. (Сюами А.
Елизаветинская Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 339).
Дадли Роберт, лорд Лесестер
(Лейчестер, Лейстер) (1532-1588), фаворит королевы Елизаветы.
Деверё, Роберт, граф Эссекс
(1566-1601). Блестящий придворный елизаветинской эпохи.
Джонсон, Бенжамин
(1572-1637), личный друг и драматический противник Шекспира.
Таллис, Томас
(1505-1585), английский органист и сочинитель церковной музыки.
Тирон, Хью О’Нил, граф
(? -1616). Предводитель ирландских повстанцев.
Трокмортон, Фрэнсис (1554-1584). Ярый приверженец
католицизма, участвовал в заговоре с целью возвести на трон
Марию Стюарт. О его
деятельности стало известно полиции, и Трокмортон был арестован, подвергнут
пытке и казнен. Некоторые историки придерживаются мнения, что его выдал
гуманист Джордано Бруно
(1548—1600), впоследствии ставший жертвой инквизиции. Бруно преподавал
философию и астрономию в Оксфорде. Он находился под покровительством
Уолсингема и был одним из его информаторов. (Сюами А. Елизаветинская
Англия / Анри Сюами. – М.: Вече, 2016, с. 365).
Франсуа де Валуа,
герцог Алансонский, позднее Анжуйский (1554—1584), потенциальный жених
Елизаветы I.
Далее читайте:
Британия за все века (Королевства англов, саксов и ютов).
Англичане
(подшивка статей об этносе).
Англия в XVII веке
(обзорная статья).
Досуг в Елизаветинской Англии
(главы из книги)
Живопись и гравюра в
елизаветинскую эпоху (главы из книги)
Хронологические таблицы:
Британия в VI веке
(хронологическая таблица)
Британия в VII веке
(хронологическая таблица)
Британия в VIII веке
(хронологическая таблица)
Британия в IX веке
(хронологическая таблица)
Британия в X веке
(хронологическая таблица)
Англия в XI веке
(хронологическая таблица)
Англия в XII веке
(хронологическая таблица)
Англия в XIII веке
(хронологическая таблица)
Англия в XIV веке (хронологическая таблица)
Англия в XV веке (хронологическая
таблица)
Англия в XVI веке (хронологическая
таблица)
Англия в XVII веке (хронологическая
таблица)
Англия в XVIII веке (хронологическая
таблица)
Англия в XIX веке (хронологическая
таблица)
Англия в XX веке (хронологическая
таблица)
Методика:
Методика
преподавания истории Англии
Чумовая история: какую пользу человечество извлекло из эпидемий прошлого
Сложно представить наш мир без эпидемий. Религиозные расколы, разрушение крепостничества, колониальные завоевания — так или иначе страшные болезни влияли на всё. И позитивных последствий здесь не меньше, чем негативных
Охватившая весь мир эпидемия коронавируса COVID-19 потребовала большого напряжения от множества людей ради борьбы с ней. Врачи ежедневно занимаются лечением зараженных, ученые спешно разрабатывают тесты и продолжают поиски вакцины, чиновники и предприниматели ломают голову над выбором стратегий, позволяющих одновременно обеспечить изоляцию большого числа людей и сохранить экономические связи в обществе.
Но есть и те, кто прямо сейчас занимаются предвидением будущего, которое наступит, после того как коронавирус отступит. Общее место — мысль о том, что мир изменится после эпидемии — как это нередко случалось в прошлые века.
«Триумф смерти». Питер Брейгель-старший, ок. 1562 года
(Фото: Wikipedia)
Вспышки смертельных болезней, безусловно, оказывали на человеческие сообщества большое влияние, и оно не сводилось к одним только открытиям и изобретениям в области медицины; эпидемии влияли на политику, экономику, культуру. Даже само слово «чума» превратилось в артефакт политической культуры — люди стали использовать его для стигматизации идеологических оппонентов, называя чумой, например, коммунистические или фашистские идеи. Тем самым им априори давалась негативная оценка, ведь чума — это то, в чем по определению не может быть ничего приемлемого.
Альтернативное прошлое
Эпидемии оказывали и непосредственное влияние на развитие истории. Мы не знаем, как повернулись бы потом события, если бы Перикл, один из отцов-основателей афинской демократии, не умер от «фукидидовой» чумы в ходе Пелопоннесской войны в 429 году до н.э. и если бы чума не уносила в могилу монархов и претендентов на престол в Средние века. Уже ближе к нашим дням — если бы президент США Вудро Вильсон не переболел испанским гриппом во время Парижской мирной конференции в 1919 году и не уступил ввиду ослабления организма требованиям французов об отделении от Германии ряда областей, Германия, возможно, не была бы охвачена после этого духом реванша, который и привел к катастрофической Второй мировой.
На Руси могла бы не возвыситься Москва, если бы не умерло семейство Симеона Гордого, в результате чего князем стал его племянник Дмитрий, названный впоследствии Донским, и если бы не обнищали другие города во время чумы 1347–53 годов, в то время как в Москве уже тогда была создана сильная система застав, которая помогла организовать карантин. Считается, что благодаря этому столице Московского княжества удалось избежать массового мора.
Не английский, а диалект французского мог бы стать мировым языком — только после эпидемий начала XIV века английский язык, практически не используемый потомками нормандских завоевателей, был возвращен в вымершие города переселенцами из деревень, меньше затронутых чумой.
«Искушение святого Антония». Приписывается Питеру Гюйсу, 1547 год
(Фото: The Metropolitan Museum of Art)
Именно близостью чумных очагов папа Павел III в XVI веке объяснил перенос заседаний Тридентского собора из собственно Тридента, что в Южном Тироле, в Болонью, ближе к Риму. Если бы не это обстоятельство, императору Священной Римской империи Карлу V, скорее всего, удалось бы настоять на реформах в католической церкви. Однако на своей территории папский престол отстоял свою власть, тем самым окончательно оформив разрыв католиков с протестантами, что имело, как известно, величайшие последствия.
Смертельное оружие
Чума, возможно, нашла «применение», если можно так выразиться, и в военном деле: существует легенда о том, что зараженные бациллой трупы перебрасывались метательными машинами при осаде городов и замков. В европейской историографии эта легенда известна со слов некоего Габриэля де Мюссе из Пьяченцы, сообщившего, что именно так татарское войско брало Каффу (Феодосию) в 1346 году:
«Город забросали горами мертвецов, и христианам некуда было убежать и некуда было спрятаться от такого несчастья…»
Было ли это непосредственной причиной проникновения чумы в Европу на кораблях бежавших генуэзцев — современные ученые сомневаются. Но это тем не менее первый так подробно задокументированный факт биологической войны, и большинство историков считают его правдоподобным. К слову: татарам взять Каффу тогда все равно не удалось, и других аналогичных рассказов нет, но одна только мысль о биологических атаках пугает людей до сих пор.
Болезни оказали огромное влияние и на колониальные процессы Нового времени. Аборигены обеих Америк, Азии, Полинезии не имели иммунитета к заболеваниям, привычным для европейцев, так как у них отсутствовал такой же, как у европейцев, домашний скот — переносчик инфекций. Когда в начале XVI века до государства инков докатилась черная оспа, завезенная на Карибские острова европейцами, стремительно умерли, по разным оценкам, несколько сотен тысяч человек, включая верховного правителя Уайну Капака. Его смерть в 1525 году вызвала еще и гражданскую войну между наследниками, и к моменту прибытия отряда Франсиско Писарро инки были уже значительно ослаблены и дезориентированы потерями от болезни и войны.
Смерть, душащая жертву чумы. Автор неизвестен, XIV век
(Фото: Heritage Images / FOTODOM)
Эпидемия оспы, а затем брюшного тифа прикончили многомиллионную цивилизацию ацтеков — их столица Теночтитлан только за один 1520 год потеряла почти половину населения. Похожим образом болезни действовали и на североамериканских индейцев и население островов Тихого океана: корь, грипп, оспа вели к экстремально быстрой депопуляции аборигенов и облегчали завоевание новых территорий. В конце XIX века эпидемии холеры и тифа сделали Тунис легкой добычей для французов.
К 1763 году относится известный случай попытки намеренного заражения индейцев оттава, осадивших форт Питт, одеялами от оспенных больных. Так же как и в случае с осадой Каффы, неизвестно достоверно, стала ли именно эта акция причиной вспышки болезни (оспа время от времени вообще возникала среди индейских племен), но эти одеяла американцам припоминают до сих пор.
Прививка для открытий
Оказывая ситуативно крайне негативный эффект, эпидемии нередко приводили к последствиям, которые мы бы оценили скорее как позитивные — то, что в английском называют «серебряной подкладкой» (silver lining). В первую очередь это, конечно, развитие медицины и гигиены. При вспышках чумы в XIII—XIV веках впервые появились врачебные осмотры на дому, выделение для зараженных чумой отдельных палат и госпиталей, карантин для прибывающих в город. В дальнейшем борьба с болезнью привела к идеям регулярной уборки улиц, очистки воды, создания постоянных служб здравоохранения и так далее. Важно, что начали развиваться именно светские медицинские институты, в то время как раньше забота о душе и теле была в основном церковной прерогативой.
«Паломничество Компании распятия в Лорето по случаю чумы 1523 года». Джованни дель Леоне, первая половина XVI века
(Фото: Heritage Images / FOTODOM)
Благодаря вспышке малярии в Ватикане в 1623 году (умерли 38 высших иерархов церкви, переболел папа Урбан VIII) у нас появился хинин — папа объявил о поиске лекарства, и его нашли в Перу иезуитские миссионеры. Снадобье из коры хинного дерева поначалу и называлось «порошком иезуитов». Хинин стал ценнейшим продуктом, и за контроль над территориями, где его добывали, велись войны. Кстати, Оливер Кромвель, не доверявший католикам, в свое время принимать хинин отказался и в 1658 году благополучно от малярии скончался.
Позже оспа обогатила медицину идеей массовой вакцинации. Хотя сам этот принцип был известен еще древним китайцам, перенимание его европейцами заняло столетия — но с 1853 года в Великобритании прививки были объявлены обязательными с трех месяцев.
Любая эпидемия вплоть до наших дней приводит к мобилизации и улучшению систем здравоохранения, созданию новых структур. В 1930-х, например, после вспышки орнитоза («попугайной лихорадки», распространившейся от экзотических птиц) гигиеническую лабораторию в США, где ученые искали вакцину, преобразовали в Национальный институт здравоохранения. А несколько лет назад после эпидемии лихорадки Эбола аналогичный институт появился в Либерии.
Возрождение после мора
В Англии во время вспышки чумы 1348 года вымерло до трети населения; нехватка рабочих рук привела к взлету расценок на труд, и король Эдуард III издает «Ордонанс о рабочих и слугах», согласно которому работники обязывались наниматься за ту же плату, что и до чумы, равно как и ремесленникам, торговцам и содержателям харчевен запрещалось взвинчивать цены, а феодалам — платить больше обычного.
Сцена чумы справа, человек слева, держащий факел, освещающий часть сцены слева, больные люди справа. Маркантонио Раймонди, гравюра, ок. 1515–16 года
(Фото: The Metropolitan Museum of Art)
Через 500 лет Карл Маркс назовет этот акт началом «эксплуататорского» и «враждебного рабочему» законодательства — враждебный или нет, но он стал первым в череде законов, регулирующих отношения работников и нанимателей. Уже в 1351 году английский статут «О рабочих» детально расписывал, кому за какую работу сколько положено брать платы, а также тонкости найма, и в целом можно сказать, что именно «черная смерть» положила начало формированию трудового законодательства. Законы эти были непопулярны у народа, так что по тем же причинам чума, получается, стала и экономической предпосылкой для нарастания классовых разногласий, непосредственно приведших к восстанию Уота Тайлера в 1381 году и в исторической перспективе — к развитию социалистических идей. Аналогичные процессы протекали и в других европейских странах.
Но экономические последствия чумы не сводились к одним только вопросам найма. Депопуляция вынужденно привела к повышению производительности труда и эффективности экономики, повысила капиталоемкость сельского хозяйства. Несмотря на ограничительные законы, стоимость труда все равно росла — даже многие землевладельцы нелегально платили работникам дополнительные деньги в обход королевских постановлений. Крестьяне стали чаще менять место жительства в поисках заработка, стоимость земли упала. Оказавшиеся в безвыходной ситуации лорды уступали фермерам право распоряжаться землей в обмен на ренту, крепостное право рухнуло. Ему на смену пришел меркантилизм — предшественник капиталистической системы.
Врач, лечащий жертв чумы, житие святого Себастьяна. Фрагмент фрески в часовне Святого Себастьяна, (Франция), XV век
(Фото: Bridgeman Images / FOTODOM)
Другими словами, мир начал приобретать более-менее знакомые нам очертания. После чумы стали наблюдаться падение инфляции и рост потребления. Перераспределение богатства в пользу выживших привело к возвышению новой аристократии — семейство Медичи, к примеру, хоть и было богатым до чумы, сумело стать сверхвлиятельным после того, как вымерла половина Флоренции. Богачи стали больше тратить на искусства, приближая тем самым Возрождение. Вообще, пережитый ужас заставил людей больше потреблять и тратить на удовольствия — они осознали, насколько коротка жизнь. В торговле повысилась конкуренция, бизнес-стратегии стали более гибкими и потребовали лучших навыков управления рисками. Не стоит забывать, что на развитие коммерции сильно повлияла и протестантская этика — появившаяся, как мы помним, тоже не без участия чумы.
Произошло бы все то же самое, если бы не эпидемии? Как знать. Скорее да, чем нет, но процессы в любом случае заняли бы больше времени и воплощались бы в более умеренном виде, а может быть, и в каком-то ином.
Сегодня много спорят о том, какое влияние окажет на мир эпидемия COVID-19. Многие эксперты критикуют капитализм, показавший свою слабость в борьбе с коронавирусом. Как именно изменятся общественные отношения и экономические связи, к появлению каких новых привычек и институтов приведут, предсказать сложно. Но можно быть уверенными, что какой-то позитив из эпидемии человечество, как всегда, извлечет.
Подписывайтесь на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.
Средневековая Англия / Интересное / Статьи / Еще / Обо всем
Средневековая Англия — период в истории Англии, начавшийся в V веке с вывода римских войск из провинции Римская Британия и вторжения германцев, закончившийся в XVI веке. Первоначально Британия не была централизованным государством, а состояла из независимых королевств.
Элегантная и несколько чопорная Англия – эталон спокойной интеллигентной сдержанности – кажется, что эта страна, всегда была преисполнена аристократической меланхолией и неспешностью, пунктуальной педантичностью и каким-то интуитивным непринятием любых перемен, что нарушают традиции, которые формировались веками… Сейчас даже трудно представить себе, что в стране лорда Байрона и Диккенса, Теккерея и сестер Бронте, в стране Льюиса Кэрролла и Джейн Остин когда-то кипели нешуточные страсти, гремели нескончаемые войны, и сама она была раздираема на куски междоусобицами и, то и дело, тонула в огне не только инквизиторском, но и революционном.
С распадом Римской Империи, в четвертом веке, большая часть Британских островов оказалась под властью германских племен, приплывших с северо-востока. Они покорили Британию, разделив ее территории на семь королевств. Племена Ютов первыми основали собственное королевство под названием Кент, которое было расположено в южно-восточной части острова. На юге же обосновалось еще три королевства, принадлежали, правда, они уже племенам саксов: Сассекс, Эссекс и Вессекс. Север Британии, и в ее центральные районы принадлежали племенам англов, которые также основали в этих областях три королевства: Мерсию, Восточную Англию и Нортумбрию. В период раннего средневековья между всеми этими королевствами шло постоянное, непрекращающееся соперничество за лидерство, но только к восьмому веку созрела необходимость объединения королевств в единое государство и тому причиной послужила, конечно же, внешняя угроза.
Викинги, или, как их называли в Британии, норманны, приплывали с Севера и буквально измучивали страну своими постоянными кровавыми и абсолютно непредсказуемыми набегами. Королевство Вессекс располагалось достаточно далеко от районов, на которые осуществлялись набеги викингов, что позволило королю Эгберту, воспользовавшись территориальным преимуществом, объединить под своей властью все англосаксонские королевства в 829 году. Приблизительно в это же время был организован новый политический орган – «Совет мудрых», который состоял из самых влиятельных в королевстве знатных мужей, и вместе с королем решал наиважнейшие государственные вопросы. Так, постепенно, англы, саксы и юты смешались с коренным населением Британии – кельтами, образовав единый народ, люди которого именовали себя англосаксами. А общим наречием, на котором заговорили смешенные воедино племена, стал язык англов, беглая и понятная речь которого была в стране наиболее распространена. А вот религия вновь стала языческой, так как, господствующие в стране германцы вытеснили христианство, существовавшее на острове с римских времен. Христианство сохранилось лишь в Ирландии, так как там церковь не зависела от Рима. Так что, ирландским монахам-миссионерам пришлось впоследствии изрядно потрудиться, дабы вернуть заблудших англосаксов в лоно истинной веры.
Параллельно с ирландцами сим богоугодным делом вдохновенно занялась и римско-католическая церковь. Так, с божьей помощью, и стараниями самоотверженных монахов процесс христианизации в Британии благополучно завершился в девятом веке, а затем, при поддержке королевской власти окончательную победу за души англосаксов одержала римско-католическая церковь, оставив ирландскую христианскую церковь без внушительного куска территорий. И, все же, англосаксы, по всей видимости, изрядно прогневали Творца своим возвращением к языческим традициям, так как Бог отказался оберегать Туманный Альбион от продолжавшихся пиратских набегов викингов, которые на северо-востоке страны, уже не довольствовались грабежом приморских территорий, а начали наступать вглубь страны, настойчиво тесня англосаксов на юг. Только королю Альфреду Великому (871 – 900) удалось несколько охладить пыл норманнов и даже заключить с ними мирный договор, согласно которому страну разделили на две части. Северо-восток страны, названный отныне Денло, принадлежал викингам, а за королем Альфредом оставалась юго-западная часть острова. Не особо доверяя мирному договору, Альфред решил подстраховаться: он строил мощные фортификационные сооружения, построил флот, а также ему удалось создать в стране чуть ли не первое профессиональное войско. Именно он, приблизительно в 890 году, создал и первый свод англосаксонских законов, который носил название «Правда короля Альфреда» и именно этот король уделял немало внимания развитию образования в стране, а также приказал вести «Англосаксонскую летопись». Несмотря на то, что король овладел латынью лишь на сороковом году жизни, он не поленился перевести на англосаксонский многие произведения римских авторов.
Последователи короля Альфреда с успехом продолжили его начинания. Все англосаксонские короли первой половины десятого века постепенно отвоевывали назад все узурпированные викингами территории. Завершил объединение страны король Эдгар (959-975), окончательно вытеснив викингов с острова. В это же время старая Британия стала именоваться Англией. В 1013 году викинги вновь захватили Англию, но им удалось удерживать власть в стране только до 1042 года, когда королем вновь стал представитель англосаксонской династии – Эдуард Исповедник (1042-1066). После смерти Эдуарда Исповедника (который, кстати, оказался не очень сильным правителем) англосаксонская знать избрала своим королем весьма рассудительного и смелого англосакса – Гарольда. Но проблема состояла в том, что на английскую корону также заявил свои права дальний родич Эдуарда Исповедника – нормандский герцог Вильгельм, прозванный впоследствии Завоевателем, так как именно он выиграл у Гарольда бой и завоевал корону.
С этого времени правление англосаксов в Англии завершилось. Отныне страной будут править лишь представители нормандской династии, потомки Вильгельма Завоевателя: Плантагенеты, Ланкастеры, Йорки, Тюдоры, Стюарты, Гонноверы и Виндзоры. С воцарением на престоле в 1154 году Генриха Второго, короля из династии Плантагенетов, для Англии начались новые времена. В первую очередь, была проведена судебная реформа – появился суд присяжных, состоящий из 12 человек. Также была произведена военная реформа. Теперь 40 дней в году военную службу обязаны были нести все вассалы короля. Средневековая Англия принимала самое активное участие во всех крестовых походах. Но самым знаменитым крестоносцем, все-таки, на все времена остался английский король Ричард Львиное Сердце (1189 – 1199).
Именно в Средние века возник и Английский парламент. Средневековая Англия пережила и столетнюю войну с Францией и внутреннюю тридцатилетнюю кровопролитную усобицу, вошедшую в историю как война Алой и Белой Розы, война за английскую корону между двумя ветвями Плантагенетов – Ланкастерами и Йорками, которую прекратил Генрих Седьмой Тюдор.
Похожие публикации
История генерала Гюдена
Генерал Гюден — знаковая фигура для Франции. Друг детства и ближайший соратник Наполеона Бонапарта. Его имя ДВАЖДЫ написано на Триумфальной арке в Париже. Он был смертельно ранен в сражении у Валутиной… Открыть
Войны диадохов
Войны диадохов — вооружённые конфликты IV—III вв. до н. э. между наследниками империи Александра Македонского за раздел сфер влияния.
Открыть
Факты и информация о средневековой религии
Премиум
Скачать Средневековая религия
Нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить этот рабочий лист для использования в классе или дома.
Скачать →
Цели урока:
- Узнайте, как и почему религия влияла на повседневную жизнь средневековой Англии.
- Поймите, насколько сильной была Церковь и как она использовала свою силу.
Снимок урока:
Религия сегодня
Сегодня в Англии существует множество различных религий.Многие люди считают себя христианами, но только около трех человек из каждой сотни ходят в церковь по воскресеньям. В средневековой Англии все было совсем по-другому, и религия играла гораздо более важную роль в жизни людей.
Средневековая религия
В Средние века в Англии почти все верили в Бога. Они следовали римско-католической религии во главе с Папой Римским. В то время это была единственная религия в Англии. Люди также верили, что рай и ад были вполне реальными местами — такими же реальными, как Испания или Франция.И окажетесь ли вы в раю или в аду, зависело от того, как вы прожили свою жизнь на Земле. Так что же это значило для обычного средневекового жителя? Что они могли сделать, чтобы попасть в рай и избежать ада? А как еще церковь фигурировала в их жизни?
Ад, чтобы заплатить!
Люди использовали религию для объяснения вещей. Если они падали и ломали руку или подхватывали неприятную заразу, это было наказанием от Бога. Если ребенок умирал, то это было потому, что этого хотел Бог. Большинству обычных людей жизнь была ужасно тяжелой, и небеса казались теплой и уютной наградой за все их страдания на Земле.
Но если бы люди были плохими, то не было бы награды в загробной жизни – как раз наоборот! Помимо того, что священник рассказывал об аде, там были картины, статуи и витражи, чтобы напоминать людям, на что был похож ад. Огромные дум-картины изображали ангелов, приветствующих людей на небесах, и дьяволов, тянущих злых людей в ад и мучающих их всевозможными ужасными способами.
церковных службы прошли на латыни, которую простые люди не могли понять! Был очень большой шанс, что священник тоже не поймет, что он говорит — он просто выучит службы наизусть! Вы не могли читать Библию, если не умели читать на латыни — Папа Римский запретил переводить ее на английский язык.
Сердце деревни
Самым большим зданием в средневековом городе или деревне была бы церковь. В отличие от сегодняшнего дня, в церквях было очень шумно, иногда суматошно. Поскольку дома большинства людей были крошечными, вонючими хижинами, полными дыма и животных, они не хотели проводить там много времени! Церковь служила местом встречи людей, где они могли удобно расположиться и поболтать о местных сплетнях.
Цена религии
Церковь досталась не бесплатно.Жители деревни должны были отдавать приходскому священнику десятую часть всей еды, которую они выращивали. Это было известно как десятина. Как вы понимаете, сельские жители часто были недовольны этим, особенно когда неурожай. Вы также должны были заплатить церкви, когда вы умерли! Священник имел право получить второе лучшее животное из всех, кто умер в деревне. Поклонение Богу и попытка попасть на небеса были дорогим делом.
Рабочий лист План урока:
- Предназначен для учащихся 7, 8 и 9 классов Великобритании или эквивалентных классов
- Премиум ресурс
- Используйте по своему усмотрению в классе или дома
- Структурированный информационный лист.
- Задающие вопросы по средневековой религии.
Религия в средние века
Религия в средние века, хотя и доминировала католическая церковь, была гораздо более разнообразной, чем только ортодоксальное христианство. В раннем средневековье (ок. 476–1000 гг. Н. Э.) Устоявшиеся языческие верования и обычаи переплелись с верованиями и обычаями новой религии, так что многие люди, которые идентифицировали бы себя как «христиан», не считались бы таковыми ортодоксальными авторитетными фигурами. .
Такие обычаи, как гадание, биолокация, изготовление амулетов, талисманов или заклинаний для предотвращения опасности или неудачи, заклинания, произносимые во время посева или ткачества ткани, и многие другие ежедневные обряды осуждались средневековой церковью, которая пыталась их подавить. .В то же время еретические секты на протяжении всего Средневековья предлагали людям альтернативу Церкви, более соответствующую их народным верованиям.
Blue Virgin Window, Шартрский собор
Уолвин (CC BY-NC-SA)
Еврейские ученые и купцы внесли свой вклад в религиозный состав средневековой Европы, а также те, кто жил в сельской местности, которые просто не были заинтересованы в принятии новой религии, и, особенно после Первого крестового похода, христиане и мусульмане взаимодействовали друг с другом. выгода.По мере развития средневекового периода церковь все больше контролировала мысли и действия людей, жестко контролируя — или пытаясь — каждый аспект жизни человека до безудержной коррупции в институте, а также его предполагаемой неспособности предложить какой-либо значимый ответ на Пандемия Черной смерти 1347-1352 годов н.э. привела к ее перелому в результате протестантской Реформации 16 века н.э.
Раннее средневековье и языческое христианство
Христианство не сразу завоевало сердца и умы жителей Европы.Процесс христианизации был медленным, и даже к концу Средневековья многие люди все еще практиковали «народную магию» и придерживались верований своих предков, даже соблюдая христианские обряды и ритуалы. Дохристианские люди, которых теперь обычно называют «язычниками», не имели для себя такого ярлыка. Слово «язычник» — это христианское обозначение, происходящее от французского языка, означающее «деревенщину», человека, пришедшего из сельской местности, где старые верования и обычаи сохранялись еще долго после того, как городские центры более или менее приняли ортодоксальную христианскую веру.
Вера в фей, духов и призраков настолько глубоко укоренилась, что приходские священники позволили продолжать практику умиротворения.
Несмотря на то, что существует множество свидетельств принятия европейцами в раннем средневековье основ христианской доктрины, совершенно определенно существование ада, иной парадигмы жизни на земле и загробной жизни настолько глубоко укоренилось в общественном сознании, что не могло легко просто отложить. В Британии, Шотландии и особенно в Ирландии вера в «маленьких людей», фей, духов земли и воды считалась простым здравым смыслом в том, как устроен мир.Оскорбить водяного будет не больше, чем отравить собственный колодец.
Вера в фей, духов и привидений («призраков», определяемых как духи когда-то живших) настолько глубоко укоренилась, что приходские священники позволяли прихожанам продолжать практику умиротворения, хотя сущности были демоническими, и с ними нельзя было шутить. Ритуалы, связанные с определенными заклинаниями и заклинаниями, поеданием или демонстрацией определенных видов овощей, совершением определенных действий или ношением определенного вида амулетов — все языческие практики с долгой историей — продолжали соблюдаться наряду с посещением церкви, почитанием святых, христианской молитвой. , исповедь и акты раскаяния.
История любви?
Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку по электронной почте!
Однако центральной заботой Церкви была правильная практика, отражающая правильную веру, и власти постоянно боролись за то, чтобы поставить население Европы под свой контроль. Приходской или соборный алтарь, у которого стоял священник, чтобы служить мессу и превращать хлеб и вино в тело и кровь Христа, находился далеко от толпы зевак. Священник читал мессу на латыни, стоя спиной к народу, и все, что происходило там, впереди, не имело ничего общего с людьми, наблюдавшими за этим.
Таким образом, купель для крещения стала средоточием церковной жизни, поскольку она присутствовала в начале жизни человека (будь то физическое существование через крещение младенцев или духовная жизнь через крещение во взрослом возрасте), при миропомазании, свадьбах и похоронах – даже если он не использовался во всех этих событиях — и особенно в ритуале, известном как испытание (или испытание водой), которое определяло виновность или невиновность человека.
Крещение Хлодвига I
Петрус (общественное достояние)
Купель для крещения часто была довольно большой и глубокой, и обвиняемого связывали и бросали в нее.Если обвиняемые всплывали наверх, они были виновны в предъявленных обвинениях, а если они тонули, то были невиновны. К сожалению, невиновным приходилось реабилитироваться после смерти, поскольку они обычно тонули. Это испытание использовалось за серьезные преступления в обществе, а также за обвинения в ереси, в том числе за продолжающуюся практику дохристианских обрядов.
Средневековье и культ Марии
Склонность мирян к продолжению этой практики не уменьшилась ни со временем, ни с угрозами, ни с повторными утоплениями.Подобно тому, как в наши дни человек оправдывает свои действия, осуждая других за такое же поведение, средневековый крестьянин, похоже, смирился с тем, что их сосед, утопленный церковью за какой-то проступок, заслужил свою участь. Нет никаких сведений о общественном резонансе, а ритуальные испытания, как и казни, были формой публичного развлечения.
Неизвестно, как относились средневековые крестьяне к чему бы то ни было, поскольку они были неграмотны, и все, что записано об их верованиях или поведении, взято из церковных или городских записей, которые вели клирики и священники.Молчание крестьян особенно заметно в отношении взгляда церкви на женщин, которые работали вместе с мужчинами на полях, могли иметь собственное дело, вступать в гильдии, монашеские ордена и, во многих случаях, выполнять ту же работу, что и мужчины, но по-прежнему считались уступает. Как отмечает ученый Эйлин Пауэр, крестьяне города «ходили в свои церкви по воскресеньям и слушали, как проповедники на одном дыхании рассказывали им, что женщина — это врата ада, а Мария — Царица Небесная» (11). Эта точка зрения, установленная церковью и поддерживаемая аристократией, значительно изменилась в период Высокого Средневековья (1000–1300 гг. н.э.), даже несмотря на то, что достигнутый прогресс был недолговечным.
Культ Девы Марии не был чем-то новым для Средневековья — он был популярен в Палестине и Египте с I века н. э. — но в это время он получил более широкое развитие. Папа Григорий I (ок. 540–604 гг. Н. Э.) Установил два полюса женственности в христианстве, охарактеризовав Марию Магдалину как искупленную проститутку, а Марию, Мать Иисуса, как возвышенную деву. Ученые до сих пор спорят о причинах, по которым Григорий так характеризовал Марию Магдалину, отождествляя ее с женщиной, взятой в прелюбодеянии (Иоанна 8: 1-11), хотя его утверждение не имеет библейского подтверждения.
Святая Мария Магдалина
Ян ван дер Краббен (CC BY-NC-SA)
Мария Магдалина, связанная своими грехами с Евой и грехопадением человека, была сексуальной искусительницей, которую побуждали мужчин бежать, в то время как Дева Мария была вне сферы искушения, неподкупной и неприкасаемой. Настоящими человеческими женщинами одно время могла быть Магдалина, а другое — Дева, и с теми или с другими лучше всего иметь дело на расстоянии. Культ Богородицы, однако, по крайней мере поощрял большее уважение к женщинам.
В то же самое время, когда Культ Богородицы наиболее быстро развивался (а может быть, благодаря ему), в Южной Франции возник жанр романтической поэзии и сопровождающий его идеал, известный сегодня как куртуазная любовь. Придворный любовный романтизм утверждал, что женщины достойны не только уважения, но и обожания, преданности и служения. Жанр и сопровождающее его поведение тесно связаны с грозной Элеонорой Аквитанской (1122–1204 гг. н. э.), ее дочерью Марией де Шампань (1122–1204 гг.).1145-1198 гг. н.э.) и связанные с ними писатели, такие как Кретьен де Труа (1130-1190 гг. н.э.), Мария де Франс (писала 1160-1215 гг. н.э.) и Андреас Капеллан (12 век н.э.). Эти писатели и женщины, которые их вдохновляли и покровительствовали, создали возвышенное видение женственности, беспрецедентное для средневекового периода.
Эти изменения произошли в то же самое время, когда популярность еретической религиозной секты, известной как катары, отвоевала приверженцев у католической церкви точно в том же регионе Южной Франции.Катары почитали богиню мудрости Софию, которой они клялись защищать и служить так же, как благородные рыцари в придворной любовной поэзии посвящали себя даме. Поэтому некоторые ученые (в первую очередь Дени де Ружмон) предположили, что придворная любовная поэзия была своего рода «кодексом» катаров, которые регулярно подвергались угрозам и преследованиям со стороны церкви, с помощью которой они распространяли свои учения. Эта теория неоднократно подвергалась сомнению, но так и не была опровергнута.
Катары были уничтожены Церковью во время альбигойского крестового похода (1209-1229 гг. н.э.), последний удар был нанесен в 1244 г. н.э. по крепости катаров Монсегюр.Рыцари-крестоносцы Церкви взяли крепость после капитуляции катаров и сожгли заживо 200 их духовенства как еретиков. Инквизиция, возглавляемая орденом доминиканцев, искореняла и осуждала подобные секты.
Исламские и еврейские влияния
Однако не только катары подвергались гонениям со стороны церкви, поскольку еврейское население Европы испытывало их на протяжении столетий. В целом отношения между евреями и христианами были дружескими, и сохранились письма, записи и личные дневники, показывающие, что некоторые христиане стремились перейти в иудаизм, а евреи — в христианство.Ученый Джошуа Трахтенберг отмечает, что «в десятом и одиннадцатом веках мы слышим о евреях, получающих подарки от друзей-язычников на еврейские праздники, о евреях, оставляющих ключи от своих домов соседям-христианам перед тем, как отправиться в путешествие» (160). Фактически, отношения между представителями двух религий были более или менее сердечными вплоть до окончания Первого крестового похода (1096-1099 гг. н.э.).
Еврейская и исламская схоластика внесли более значительный вклад в культуру Европы, чем любые христианские усилия за пределами монастырей.
евреям было запрещено носить оружие, и поэтому они не могли участвовать в крестовом походе, что, по-видимому, расстроило их соседей-христиан, чьи мужья и сыновья были увезены феодалами в Святую Землю. Экономические трудности, вызванные нехваткой рабочей силы для обработки полей, еще больше подорвали отношения между ними, поскольку многие евреи были торговцами, которые могли продолжать свою торговлю, в то время как крестьянин-христианин был привязан к земле и изо всех сил пытался сажать, ухаживать и собирать урожай.
Первый крестовый поход оказал противоположное влияние на мусульман, которые за пределами Испании ранее появлялись в Европе только в качестве торговцев.Крестовый поход открыл возможность путешествия в Святую Землю, и ряд ученых воспользовались этим, чтобы учиться у своих коллег-мусульман. Работы исламских ученых и ученых попали в Европу вместе с переводами некоторых из величайших классических мыслителей и писателей, таких как Аристотель, чьи работы были бы утеряны, если бы не мусульманские писцы. Еврейская и исламская схоластика, по сути, внесли более значительный вклад в культуру Европы, чем любые христианские усилия вне монастырей из-за ксенофобии и высокомерия церкви.
Настаивание церкви на абсолютной истине своего собственного видения, осуждая видение других, распространялось даже на собратьев-христиан. Католическая церковь Запада поссорилась с Восточной православной церковью в 867 г. н.э. из-за того, кто имеет «истинную» веру, и Восточная православная церковь окончательно разорвала все связи со своим западным коллегой в 1054 г. н.э., так называемый Великий раскол. Это было вызвано заявлением Церкви о том, что она была основана Святым Петром, была единственным законным выражением христианской веры и, следовательно, должна иметь право контролировать Восточную Православную Церковь, а также ее прибыльные земельные владения.
Позднее средневековье и Реформация
В позднем средневековье (1300–1500 гг. н. э.) Церковь продолжала широкомасштабно искоренять ереси, подавляя новые религиозные секты, в индивидуальном порядке поощряя священников наказывать неортодоксальные верования или обычаи и навешивая ярлык на любого критика или реформатора. еретик вне божьей благодати. Крестьянство, хотя и номинально являлось ортодоксальным католиком, продолжало соблюдать народные обычаи, и, как отмечает ученый Патрик Дж. Гири, «знание христианской веры не означало, что люди использовали это знание способами, совпадающими с официально санкционированной практикой» (202).Поскольку средневекового крестьянина учили молитвам «Отче наш» и «Радуйся, Мария» на латыни, языке, которого они не понимали, они читали их как заклинания, чтобы отвратить несчастье или принести удачу, мало обращая внимания на важность слов, как их понимали. храм. Сама месса, также проводившаяся на латыни, была столь же загадочной для крестьянства.
Мадонна Милосердия, Орвието
Интернет-галерея искусств (общественное достояние)
Следовательно, средневековый крестьянин чувствовал себя гораздо более комфортно при смешении старых языческих верований с христианством, что привело к инославной вере.Приходским священникам снова было приказано серьезно относиться к еретической практике и наказывать ее, но духовенство не было настроено, в основном из-за приложенных усилий. Кроме того, большинство духовенства, особенно приходские священники, были коррумпированы и неэффективны, и так было уже довольно давно. На самом деле одной из причин, по которой еретические секты привлекали приверженцев, было уважение, вызываемое их духовенством, которое жило их верованиями. Напротив, как отмечает Гири, католическое духовенство олицетворяло те самые семь смертных грехов, которые они осуждали:
Невежество, половая распущенность, продажность и продажность духовенства в сочетании с их частыми прогулами были главными и давними жалобами мирян.Антиклерикализм был присущ средневековому обществу и никоим образом не умалял религиозности. (199)
Прихожанин может ненавидеть священника, но уважать религию, которую представляет этот священник. Священник, в конце концов, имел мало отношения к жизни крестьянина, а святые могли отвечать на молитвы, защищать от зла и вознаграждать за добрые дела. Считалось, что паломничества к местам святых, таким как Кентербери или Сантьяго-де-Компостела, доставляют удовольствие святому, который затем дарует паломнику благосклонность и искупает грех так, как ни один священник никогда не мог этого сделать.
В то же время нельзя было обойтись без духовенства из-за того, что Церковь настаивала на священнослужении — политике, согласно которой мирянам требовалось заступничество священника для общения с Богом или понимания Священного Писания, — и поэтому священники по-прежнему обладали значительной властью над отдельными людьми. ‘ жизни. Особенно это касалось загробного состояния чистилища, в котором душа расплачивалась мучениями за любые грехи, не прощенные священником в жизни. Церковные предписания, известные как индульгенции, продавались людям — часто по высокой цене — которые, как полагали, сокращали время для души или любимого человека в огне чистилища.
Дьявол, продающий индульгенции
Packare (общественное достояние)
Непрекращающаяся борьба за то, чтобы привести крестьянство в соответствие с ортодоксальностью, в конце концов утихла, поскольку практики, ранее осуждаемые церковью, такие как астрология, онейрология (изучение сновидений), демонология и использование талисманов и амулетов, были признаны важными источниками доход. Продажа реликвий, таких как палец святого или осколок Истинного Креста, была обычным явлением, и за определенную плату священник мог истолковать чьи-то сны, нанести на карту звезды или назвать любого демона, препятствовавшего хорошему браку для сына или дочери.
На протяжении многих лет средневековая наука настаивала на дихотомии двух средневековых христианств — элитарной культуры, в которой доминировали духовенство, горожане и письменное слово, и народной культуры устной традиции сельских масс, проникнутой с языческой верой и практикой. В наши дни признано, что языческие верования и ритуалы с самого начала формировали христианство как в городе, так и в деревне. По мере того, как церковь набирала все больше и больше власти, она могла более жестко настаивать на том, чтобы люди подчинялись ее ограничениям, но та же самая основная форма — попытка церкви навязать новую структуру верований людям, привыкшим к вере своих предков, — оставалась более жесткой. или менее нетронутыми на протяжении всего средневековья.
Заключение
По мере того, как средневековый период подходил к концу, ортодоксия Церкви, наконец, проникла в самые низшие слои общества, но вряд ли это кому-то пошло на пользу. Реакция на прогрессивное движение XII века н.э. и его новую ценность женщин приняла форму монашеских религиозных орденов, таких как премонстраты, запрещающие женщин, гильдий, в которых ранее были женщины-члены, объявляющие себя мужскими клубами, и способность женщин ведение бизнеса свернуто.
Продолжающиеся крестовые походы очерняли мусульман как заклятых врагов христианского мира, в то время как евреев обвиняли в ростовщичестве (взимании процентов) — хотя церковь более или менее определила для них эту роль в финансах через официальную политику — и были изгнаны из общин и целых стран. . Языческие обычаи были либо искоренены, либо обращены в христианство, и церковь обладала значительной властью над повседневной жизнью людей.
Однако далеко идущая коррупция средневековой церкви, против которой веками проповедовали критики и реформаторы, в конце концов стала слишком невыносимой, и всеобщее недоверие к церкви и ее видению еще больше подкреплялось ее неспособностью ответить на вызов Черного Пандемия смерти 1347-1352 годов н.э., приведшая к повсеместному духовному кризису.Протестантская Реформация началась как еще одна попытка заставить церковь обратить внимание на ее собственные злоупотребления и недостатки, но политический климат в Германии и личная власть священника-монаха Мартина Лютера (1483–1546 гг. н. э.) привели к к бунту людей, давно уставших от гнетущего издевательства монолитной церкви.
После того, как Мартин Лютер начал Реформацию, другие священнослужители в других регионах последовали его примеру. Христианство в Европе впоследствии часто оказывалось не более терпимым или чистым в протестантской форме, чем оно было выражено через средневековую церковь, но со временем нашло способ сосуществовать с другими верами и предоставило большую свободу индивидуальному религиозному опыту.
Перед публикацией эта статья прошла проверку на точность, надежность и соответствие академическим стандартам.
Средневековая религия
Средневековая религия
Средневековая Религия
В Средние века единственной признанной религией в Европе было христианство в форме католицизма. В жизни средневековых людей Средневековья господствовала церковь. От рождения до смерти, будь то крестьянин, крепостной, дворянин или король, в жизни доминировали церковь и средневековая религия.Различные религиозные учреждения, такие как монастыри и монастыри, стали важными, богатыми и могущественными. Жизнь многих средневековых людей, в том числе различных орденов монахов и монахинь, была посвящена католической церкви и религии. Это был также период больших перемен в христианской церкви. Споры крестовых походов привели к расколу между Восточной и Западной христианскими церквями, названному Великим расколом 1054 года. новая религия под названием протестантизм, которая привела к дальнейшему расколу в христианской церкви, получившей название протестантской Реформации.Этот раздел охватывает все важные события, а также религиозных реформаторов и философов, которые повлияли на изменения в средневековой религии.
Религия и философия
В средние века религия как все. Нередко люди каждый день ходили в церковь и молились пять раз в день. Люди верили, что все хорошее в жизни происходит из-за щедрости бога, а злые события того времени — из-за их грехов. Средневековая религия была чрезвычайно важна, и даже врачи той эпохи также хорошо разбирались в религии.От рождения до смерти, будь вы крестьянином, крепостным, дворянином, лордом или королем, в жизни господствовали церковь и средневековая религия. Было много известных средневековых святых, и есть подробные сведения об именах этих благочестивых мужчин и женщин средневековья. Следующие ссылки дают представление о различных аспектах религии и философии Средневековья.
Биографии и хронология известных религиозных реформаторов и философов
Биографии и хронология известных средневековых религиозных реформаторов и философов можно найти в разделе Средневековая религия.Щелкните одну из следующих ссылок для получения фактов и информации:
История христианской религии
Прочтите об истории христианской религии от возникновения христианства в римскую эпоху до средневековья.
История католической религии
Основные исторические события в истории католической религии, включая темы ересей, инквизиции и Великого раскола.
Великий раскол
Узнайте о Великом расколе 1054 года, который был расколом между Восточной и Западной христианскими церквями.
Протестантская Реформация
Практика католической религии подвергалась сомнению во время Реформации, и верования таких людей, как Мартин Лютер, привели к появлению новой религии под названием протестантизм.
Папы средневековья
Имена и список пап, пользовавшихся большим влиянием и властью в средние века 1066 — 1485.
Религиозные праздники сезон.Различные времена года и месяцы года отмечались религиозными праздниками и праздниками, которые подробно описаны в этой статье.
Средневековье монахов
Узнайте о том, как стать монахом, о монашеских обетах, о монастыре и жизни монахов, а также о сексуальных практиках монахов.
Монахини в Средние века
Все монахини вели жизнь строго дисциплинированную. Их жизнь была посвящена Богу и вере и была отказом от мирской моды и уважения.
Паломничество
Определение паломничества, концепция паломничества, христианского паломничества и направлений, включая паломничество в Уолсингем, базилику Святого Петра, Лудрес и Кентербери. Христианское паломничество и крестовые походы. Кентерберийские рассказы Джеффри Чосера и паломничество благодати.
Средневековый монастырь
Средневековый монастырь первого типа придерживался бенедиктинского устава, установленного св.Бенедикт в 529 г. Основными орденами средневековых монахов были бенедиктинцы, цистерцианцы и картезианцы. Планировка, постройки и помещения в монастыре.
Средневековый монастырь
Основные постройки большого монастыря были сгруппированы вокруг внутреннего двора, называемого монастырем, и включали церковь, трапезную или столовую с кухней и кладовой рядом с ней и общежитие, где монахини спали.
Монашество
Концепция монашества заключалась в уходе от мира, от его искушений и преходящих удовольствий к жизни в уединении, молитве и религиозном созерцании.
Бенедиктинский устав
Три обета бедности, целомудрия и послушания были основой правления св. Бенедикта.
Монахи-бенедиктинцы
Монахи-бенедиктинцы жили в условиях строгой дисциплины. Они не могли владеть никаким имуществом; они не могли выходить за стены монастыря без согласия настоятеля; они даже не могли получать письма из дома. состоял из одной маленькой клетки.
Религия и философия Мартин Лютер
Мартин Лютер — Краткая биография Мартина Лютера, важного средневекового деятеля, известного как богослов, философ и религиозный реформатор, основавший лютеранскую религию.
Религия и философия Альберт Магнус
Альберт Магнус — Краткая биография Альберта Магнуса, крупного средневекового деятеля, известного как немецкий философ и богослов.
Религия и философия Фомы Аквинского
Фома Аквинский — Краткая биография Фомы Аквинского с ключевыми датами о жизни выдающегося средневекового деятеля, известного как один из величайших теологов католической церкви.
Религия и философия Петра Пустынника
Петр Пустынник — Краткая биография Петра Пустынника с ключевыми датами о жизни важного средневекового деятеля, прославившегося тем, что он возглавил Народный крестовый поход — Первый крестовый поход 1096 — 1099.
Религия и философия Яна Гуса
Ян Гус — Краткая биография Яна Гуса, важного средневекового деятеля, который был известен как философ, священнослужитель и религиозный реформатор, который привлек последователей, называемых гуситами.
Религия и философия Джона Уиклифа
Джона Уиклифа — Краткая биография Джона Уиклифа, важного средневекового деятеля, который был известен как средневековый религиозный реформатор и первый человек, переведший Библию на английский язык.
Религия и философия Уильяма Оккама
Уильяма Оккама — Краткая биография Уильяма Оккама, важной средневековой фигуры, известного как средневековый монах-францисканец и философ-схоласт.
Религия и философия Питера Абеляра
Питер Абеляр — Краткая биография Питера Абеляра, известного средневекового деятеля, известного как средневековый ученый, философ и его трагический роман с прекрасной Элоизой.
Известные религиозные реформаторы и философы — Эразм
Эразм — Краткая биография Эразма, важной средневековой фигуры, известного как гуманист и религиозный реформатор.
Религия и философия
Веб-сайт Medieval Life and Times содержит интересные факты, историю и информацию о средневековой религии и философии, которые разбросаны по средневековым книгам по истории. Карта сайта Medieval Times содержит полную информацию и факты об увлекательной теме жизни людей, живших в исторический период Средневековья.Содержание этого раздела о христианской религии и средневековой жизни и временах содержит бесплатные образовательные подробности, факты и информацию для справки и исследования для школ, колледжей, а также домашние задания для курсов истории и курсовых работ по истории.
Опишите значение религии в обществе в средние века
Религия играла гораздо более важную роль почти во всех сферах средневековой жизни, чем в большинстве современных обществ. Подавляющее большинство людей в Европе исповедовали христианскую религию под властью Римско-католической церкви.Церковь в ту эпоху обладала огромным богатством, политической властью и влиянием на общественную жизнь, искусство, архитектуру и образование.
1 Эпоха веры
Средневековье иногда называют Эпохой веры, потому что религия была настолько распространена в европейском обществе. Средневековые деревни были организованы вокруг местных церквей, а более крупные города тратили поколения труда и ресурсов на строительство больших соборов. Средневековые люди рассчитывали на то, что церковь предоставит социальные услуги, духовное руководство и защиту от невзгод, таких как голод или эпидемии.Большинство людей были полностью убеждены в истинности церковного учения и верили, что только верные избегут ада и обретут вечное спасение на небесах.
2 Священное и светское
Обладая таким влиянием на верования людей, церковь также обладала огромной политической властью. Папство было настолько могущественным в средние века, что, когда император Священной Римской империи Генрих IV разозлил папу Григория VII, Григорий заставил императора три дня стоять на коленях в снегу, чтобы просить прощения.Когда папы призывали к крестовым походам, чтобы изгнать мусульман из Иерусалима, огромные армии шли на войну под их командованием. Влияние церкви было настолько велико, что люди из всех слоев общества совершали длительные и иногда опасные паломничества к святым местам, чтобы искупить поведение, которое церковь считала греховным.
3 Искусство и религия
Светское искусство любого рода было гораздо менее распространено в Средние века, чем религиозное искусство. Искусство часто использовалось как средство обучения, а не само по себе.Поскольку так мало людей умели читать, картины и резьба по дереву были простым способом представить религиозные истории и символы. Жизнь общины строилась вокруг календаря дней святых и других религиозных праздников, таких как Рождество и Пасха. Такие развлечения, как музыка, драма и танцы, обычно устраивались во время религиозных праздников. Типичный средневековый фестиваль включал в себя костры, музыкантов, демонстрации жонглирования и других трюков, дрессированных животных, особую еду и игры с актерами в фантастических масках и костюмах.Несмотря на то, что многие из этих мероприятий не были напрямую связаны с религией, они по-прежнему проводились в праздничные дни и часто проводились перед церковью, центром общины.
4 Образование и возможности
Средневековая университетская система была создана и контролировалась церковью, поэтому большинство европейских интеллектуалов в Средние века были монахами или другими церковными деятелями. Монахи умели не только читать, но и часто проводили большую часть своего времени, переписывая от руки древние рукописи и религиозные тексты.Для человека крестьянского происхождения вступление в церковь в качестве монаха или священника было возможностью учиться, учиться и продвигаться вверх по иерархии, которая иначе была бы недоступна.
Религия Средневековья
Религия Средневековья
Религия Средневековья — Христианская Религия (Христианство)
Христианская религия, или Христианство, — это название, данное системе религиозных верований и практик, которой учил Иисус Христос в стране Палестина во время правления римского императора Тиберия (42 г. до н.э. — 37 г. н.э.).Христианство зародилось в иудаизме. Иисус Христос, его основатель, и Его ученики были ортодоксальными евреями. Новая христианская религия возникла на основе свидетельств Священного Писания, истолкованных жизнью Иисуса Христа и учением Его Апостолов, которые были задокументированы в Библии.
Религия в Средние века
Религия в Средние века — Возникновение христианской религии (христианства) в римскую эпоху
Христианство зародилось среди небольшого числа евреев (около 120, см. Деяния 1:15).Христианство рассматривалось как угроза Римской империи, поскольку христиане отказывались поклоняться римским богам или императору. Это привело к преследованию первых христиан, многие из которых были убиты и, таким образом, стали мучениками христианской религии. Преследование приверженцев христианской религии прекратилось во время правления римского императора Константина. Император Римской империи Константин I (ок. 285–337 гг. н. э.) легализовал христианство, а Константин Великий провозгласил себя «Императором христианского народа».Большинство римских императоров, пришедших после Константина, были христианами. Затем христианство стало официальной религией Римской империи вместо старой римской религии, которая поклонялась многим богам.
Религия Средневековья — Возникновение христианской религии (христианства) в Средние века
В 5 веке Римская империя начала рушиться. Германские племена (варвары) завоевали город Рим. Это событие положило начало периоду в истории, называемому Темными веками.Период Средневековья ознаменовался ростом могущества христианской церкви, которую тогда называли католической религией.
Религия Средневековья — Католическая религия
В Средневековье и Раннее Средневековье единственной принятой христианской религией была католическая религия. Слово «католик» происходит от среднеанглийского слова «католик» и от старофранцузского «католик» и латинского слова «католикус», означающего универсальный или целостный. Ранние христиане, такие как святой Игнатий Антиохийский, замученный в 110 г., использовали термин «католический» для описания всей Церкви в буквальном смысле слова «всеобщая» или «целостная».Любые другие секты считались еретическими. Католическая религия считалась истинной религией. Христианская церковь была разделена географически на запад (Рим) и восток (Иерусалим, Александрия и Антиохия).
Религия Средневековья — Власть католической церкви и роль церкви в Средние века
С собственными законами, землями и налогами Католическая церковь была очень могущественным учреждением со своими законами и землями. Католическая церковь также ввела налоги.Помимо сбора налогов, Церковь также принимала всевозможные дары от людей, которые желали особых привилегий или хотели быть уверенными в своем месте на небесах. Сила католической церкви росла вместе с ее богатством. Католическая церковь тогда смогла влиять на королей и правителей Европы. Оппозиция католической церкви приведет к отлучению от церкви. Это означало, что человек, отлученный от церкви, не мог посещать церковные службы, принимать таинства и после смерти попадал прямо в ад.
Средневековье Римско-католическая религия — Великий раскол и Великий западный раскол
В 1054 году произошел раскол между Восточной и Западной христианскими церквями, вызванный спорами о крестовых походах. Этот раскол получил название Великого Раскола. Великий западный раскол произошел в западном христианском мире с 1378 по 1417 год. Это было вызвано избранием итальянского папы по имени Папа Урбан IV и учреждением папского двора в Риме. Французы не согласились с этим и избрали французского Папу, который базировался в Авиньоне.Раскол в западном христианском мире был окончательно преодолен на Констанцском соборе, и католическая религия стала называться римско-католической религией.
Средневековье Религия
Каждый раздел этого веб-сайта посвящен всем темам и содержит интересные факты и информацию об этих великих памятниках прошлого. Карта сайта содержит полную информацию обо всей информации и фактах, касающихся этого увлекательного предмета.
Религия Средневековья
- Средневековая жизнь в Средневековье с преобладанием католической религии
- Религия Средневековья — христианская религия (христианство), церковь, монахи и монахини в эпоху Римской империи
- Возникновение христианской религии (христианства) и церкви
- Католическая религия и церковь
- Власть католической церкви — монахи и монахини
- Великий раскол и Великий западный раскол церкви
«Фольклор» и «народная религия» в Британии в средние века
Изучение «фольклора» средневековья — разочаровывающее занятие.Наши источники дают урожай, достаточно богатый, чтобы возбудить аппетит, но все же слишком скудный, чтобы насытить. С раннего средневековья своды законов и покаяния описывают ритуалы исцеления, в ходе которых детей помещали в печи, фей умилостивляли, бросая луки и стрелы в амбары, а некрещеных детей «ставили колом», чтобы они не восстали из могилы. Начиная с конца двенадцатого века и далее, экземпляра указывают на то, что некоторые мужчины и женщины считали несчастьем встретить священника на улице, а другие были не прочь раскрошить облатки для причастия над своим урожаем, чтобы защитить его.Двенадцатый и тринадцатый века стали свидетелями распространения и разнообразия «исторического» письма. Летописцы все чаще находили в своих повествованиях место для рассказов о чудесах: Ральф из Коггсхолла рассказывал о зеленых детях, найденных на кукурузных полях, о диких людях, ловящих рыбу в море, и о невидимых духах, обитающих в крестьянских домах (Ральф из Коггсхолл, 1875, 117–121). На периферии жанра хроник также возникли новые виды повествования, которые поставили чудесное и фантастическое в центр, а не на край исторического предприятия: здесь Уолтер Мэп рассказывал истории о женщинах-феях, вышедших замуж за смертных мужчин, и истории о мертвых мужчинах, которые ночью поднялся из могилы (Карта 1983, 154–156 и 344).[1]
Собрать примеры достаточно просто, но как их анализировать? При обращении с таким материалом сразу видны три проблемы. (В каком-то смысле это единая проблема, но для ясности было бы целесообразно с самого начала разделить их.) Первая — концептуальная: можем ли мы говорить о «фольклоре» в Средние века и, если да, то кто точно были «люди», которые использовали знания? Второй доказательный: общины средневековой Европы, из-за того, что их культуры, как правило, формулировались в устной, а не в письменной форме, оставили лишь очень слабые следы верований и обычаев.Они редко выживают в достаточной концентрации, чтобы мы могли описать верования и обычаи какой-либо отдельной общины или даже отдельного региона. Это закрывает возможные пути исследования: возможности для «микроистории» или «обширных описаний» в этот период немногочисленны, особенно в его ранней части (очевидным исключением здесь является « Монтайлу » Ле Руа Ладури [1980]). . Последняя сложность связана со второй, но носит методологический характер. Наши разрозненные фрагменты свидетельств являются продуктом канцелярского пера, скорее письменной культуры, чем преимущественно устной культуры, в которой существовали верования и использовались обычаи.Таким образом, культурные разрывы между носителями устной и письменной культуры требуют размышлений.
Эта проблематичная троица — историографическая головоломка «три в одном» — требует, чтобы мы использовали мощную теорию, если мы хотим воссоздать из фрагментарных останков более крупные модели средневековых верований и практик. Обсуждая здесь возможности, мы не можем говорить о «фольклоре» изолированно или как о данной категории. Скорее, нам нужно думать о более широкой картине, рассматривая «религиозную культуру» как органическое целое.
«Элитная» религия и «фольклорная» религия
Одна серия решений наших проблем представлена «народными/элитными» моделями средневековой религии. За последние двадцать пять лет часто утверждалось, что религиозную культуру в средневековой Европе лучше всего можно понять с точки зрения социальных категорий, что существовали значительные пропасти между религиями образованной элиты и необразованных масс или между религиями духовенства и мирян. Жан Делюмо, бросая вызов нерефлексивным образам Средневековья как «эпохи веры», поставил под сомнение полноту процесса обращения (Delumeau 1971).Он утверждал, что, хотя социальная элита могла быть обращена в чистокровное христианство, массы были лишь поверхностно обращены в христианство и продолжали, под покровом официальных обрядов, исповедовать изменчивую языческую народную религию. Эта религия формулировалась устно и поэтому оставила мало следов, иногда сохранившихся под пером элитарных церковников, которые чаще всего отмечали ее в целях репрессий. Этот бескомпромиссный анализ, который, казалось, слишком корректировал старую ортодоксию, был смягчен последующими поколениями ученых (Schmitt 1983; Gurevich 1988, xiii–xvi; Le Goff 1980; 1988).Жак Ле Гофф и его ученики предполагают, что «элитарная/клерикальная» и «массовая/фольклорная» культуры были различны, но находились в состоянии постоянного диалога, и церковники стремились модифицировать последнюю, смешивая репрессии и переизобретения (Schmitt 1976, 941–953). ).
В некотором смысле эта модель очаровательна. Позволяя нам отличить официальное христианство элиты от популярной религии народа, он обеспечивает огороженное фольклорное пространство, в котором мы можем разместить рассказы о зеленых детях, сказочных женах и призрачных рыцарях.Тем не менее, даже более изощренные и нюансированные подходы Ле Гоффа и Шмитта не в полной мере убеждают. Критика их работы концентрируется на предположении, что социальные категории, такие как элита/масса или клерикалы/миряне, являются хорошими предикторами религиозных верований (Delaruelle 1975; Murray 1978, 14–17, 237–41, 244–57 и 319; Brown 1981, 18–20; Брук и Брук, 1984, 9–10 и 12–13; Рубин, 1991, 7; Телленбах, 1993, 128). Беглый осмотр показывает, что средневековое общество было достаточно сложным, чтобы многие люди могли уклоняться от подобных классификаций.Где, например, помещается приходской священник? Является ли он приверженцем элитарной или популярной религии? Он, безусловно, попадает в категорию клерикальных, но насколько значим этот ярлык? Местные священники набирались в основном из крестьянских общин, которым они служили, и, вероятно, получали лишь элементарное образование. Трудности умножаются, если мы думаем о знатных новообращенных монахах и крестьянах-отшельниках. Были ли их верования обязательно разными из-за разного происхождения, или они могли разделять аскетичную, отвергающую мир духовность? Если мы обратимся к практике, мы столкнемся с теми же трудностями, потому что можем найти много практик, выходящих за рамки социальных категорий.Бросив на мгновение взгляд через канал, мы обнаруживаем, что покаянный справочник, написанный около 1000 года Бурхардом из Вормса, Исправляющим , осуждает тех, кто боялся выйти на улицу до пения петухов, потому что злые духи были повсюду (Бурчард из Вормса, 1898). , 442). Это можно рассматривать как пример того, как верования грамотного священнослужителя, участвовавшего в элитарной культуре, находились в противоречии с фольклорными верованиями масс. Но как же тогда объяснить Гвиберта де Ножана, образованного церковника двенадцатого века, который привык спать с лампой у своей кровати, чтобы отпугивать злых духов (Гиберт из Ножана, 1970)?
Нормативные и нарративные источники
Искушение классифицировать веру на основе социальных групп, таких как элита и массы, духовенство и миряне, грамотные и неграмотные, рождается, я думаю, из видов свидетельств, на которых останавливались историки, и языка они впитали от них.Большая часть работ Ле Гоффа и Шмитта посвящена сборникам проповедей, покаянным справочникам и текстам канонического права. Такие источники имеют явный дидактический проект и проводят резкое различие между церковными идеалами и злоупотреблениями в обществе в целом. Но не слишком ли за чистую монету принимались такие противоречия в нормативных источниках? Работы церковного деятеля двенадцатого века Джеральда Уэльского дают возможность проверить эту гипотезу, потому что здесь мы имеем автора, писавшего о сходных вопросах веры и практики в разных литературных жанрах.
Джеральд, родившийся примерно в 1146 году, был хорошо образован и учился в парижских школах, прежде чем вернуться в свой родной Уэльс, чтобы стать архидиаконом церкви Святого Давида (Bartlett 1982, 27–57). В его объемистых трудах несколько раз поднималась одна тема: следует ли разрешать мирянам и женщинам танцевать на церковных дворах в праздничные дни. Это появляется в его Jewel of the Church , сборнике учебных рассказов, который легко выдает школьное обучение каноническому праву. Здесь Джеральд продвигал энергичную программу реформ, борясь с широким спектром злоупотреблений в обществе.В одном рассказе Джеральд предупреждал, «что миряне не должны петь и танцевать вокруг церквей и кладбищ в праздники святых, но должны посвятить себя богослужению» (Gerald of Wales 1861–91, vol. 2, 119–119). 20). Джеральд подкреплял свой аргумент ссылками на Толедский собор и авторитет отцов, особенно Августина, и мнение, которое он выражал, также перекликалось с мнением бесчисленных более ранних и более поздних покаянных руководств (см., например, Morey 1937, 256).И все же взгляд Джеральда на такие танцы не был таким однозначным, как можно было бы предположить в Жемчужине Церкви . Он также обратился к этому предмету в совершенно другом виде письма, повествовательном отчете о проповедническом путешествии, которое он предпринял по Уэльсу в 1188 году, так называемом Путешествии по Уэльсу . Здесь Джеральд описал, как в церкви святого Элунада в Бреконе, в день памяти святого, все жители округи собрались в церкви, а затем танцевали вокруг церковного двора, распевая «традиционные песни» (Gerald of Wales 1861–91, об.6, 32–3). Некоторые из них впали в бешенство и начали изображать работу, которую они незаконно выполняли в праздничные дни: «Вы могли видеть, что этот человек изображает сапожника, а тот — кожевника». Сделав это, их подводили к алтарю, совершали там приношения и «возвращались к себе».
Здесь, по-видимому, мы находим неофициальный ритуальный танец, служащий покаянным целям в общине, где было устоявшееся церковное учение о воздержании от работы в праздничные дни, но где не было официальных ритуалов искупления греха.Следовательно, сообщество сформировало свои собственные искупительные стратегии. Однако для нас более интересна реакция архидиакона Геральда. Учитывая взгляды, выраженные в его Jewel of the Church , мы могли бы разумно ожидать, что он осудит такую неофициальную практику. На самом деле его реакция была разительно иной: «Бог желает не смерти грешника, а скорее того, чтобы он обратился от нечестия: и потому, принимая участие в этих празднествах, многие тотчас же видят и чувствуют в сердце своем прощение грехов». их грехи, и они получают отпущение и прощение» (Gerald of Wales 1861–91, vol.6, 33). Архидиакон, чья теоретическая роль заключалась в контроле и ограничении разнообразия религиозного самовыражения, на практике сочувствовал ему.
Какой вывод мы можем извлечь из этой истории? Нормативные источники могут дать нам представление об официальных христианских учениях, но они не обязательно дают нам прямой доступ к религиозным верованиям церковников, даже тех конкретных церковников, которые их написали. Взгляд Джеральда на танцы на кладбищах, кажется, меняется в зависимости от того, в каком жанре он пишет.При написании учебной работы Джеральд чувствовал себя ограниченным каноническим правом и авторитетными высказываниями отцов церкви и соборов. Но когда пристальное внимание к этим авторитетам было менее насущным, как в Путешествии по Уэльсу , убеждения Джеральда проявились в другой форме.
Этот пример предполагает, что существуют риски при рассмотрении как экземпляра , так и справочников покаяния через предварительно сформированные линзы «популярности» и «элиты». Подходы к средневековой религии, основанные на таких различиях, проблематичны, потому что они придают «народной» или «фольклорной» вере неубедительное единство и усиливают напряженность между ней и предполагаемой элитарной религиозной культурой.Такое прочтение поощряет и поощряет анализ, который открыто или неявно связан с идеями антагонистических, основанных на классах социальных отношений. Эти подходы могут быть ограничительными. Они делают наши свидетельства продуктом элиты, которая, столкнувшись с массовой культурой, была в лучшем случае глубоко бесчувственной, в худшем — враждебной и непонимающей. Никто не будет спорить с тем, что instancea обеспечивают беспроблемный доступ к культуре (культурам) масс, но с ними часто обращаются так, как если бы они давали довольно прямое представление о культуре клерикальной элиты (см. критические комментарии в O’Neill [1986]). , 222]).Авторы нормативных источников, таких как справочники покаяния или проповеднические материалы, сознательно действовали в рамках литературных и богословских традиций. В процессе сочинения их богословская и канонико-правовая подготовка нашла сильное и четкое выражение, побуждая их в значительной степени опираться на канон священных, святоотеческих и более поздних текстов, которые придавали их собственным сочинениям авторитет. Акт распространения официальных христианских учений навязывал такую дисциплину. Но из этого не следует, что религиозные и культурные ценности таких авторов формировались исключительно в школах или монастырях, формировались только каноническим правом и богословием.Их религиозный и культурный облик также формировался, в большей или меньшей степени, другими «местными» культурными традициями, в которых они участвовали, возможно, в детстве, в пастырском служении в более позднем возрасте или даже во время экскурсий из монастыря в мир. Ключевой вопрос здесь заключается в том, что происходит, когда канцелярские авторы освобождаются от ограничений нормативных жанров. Если мы читаем только покаянную и проповедническую литературу, то вопрос остается без ответа, но если мы обратимся к нарративным сочинениям, мы получим возможность наблюдать клирикальных авторов (иногда тех же клирикальных авторов, которые создали наши нормативные источники) в ином литературном свете, определяемом различные «правила» жанра.Следовательно, размышляя о свидетельствах средневековой религиозной культуры, важно учитывать не только то, кто является автором этих свидетельств, но и контекст или жанр, в котором он писал.
Христианские обращения и языческие пережитки
Контекстуализация важна и во втором смысле. Как мы заметили, источников веры и практики в Средние века сравнительно немного. Это побудило некоторых историков расширить географические рамки своих исследований, часто изучая религиозную культуру в европейском или еще большем масштабе.Особенно склонны к такому подходу историки и фольклористы, заинтересованные в прослеживании «языческих пережитков» от дохристианской эпохи к христианской. Совсем недавно Карло Гинзбург использовал его, чтобы доказать, что твердое ядро религии народа почти не изменилось после обращения в христианство и что мы можем различить фундаментальную преемственность верований, протянувшуюся от античности через Средние века до раннего Нового времени (Ginzburg 1990). ). Тем не менее, в таком методе есть много опасностей, не в последнюю очередь из-за того, что при рассмотрении примеров вне контекста поразительная культурная преемственность в пространстве и времени ослепляет наблюдателя и скрывает фундаментальные различия.[2]
Такие подозрения подкрепляются более пристальным взглядом на свидетельства из Англии и Шотландии в центральном и позднем средневековье. Это показывает несколько убедительных примеров преемственности язычества. Один из самых веских аргументов можно привести в отношении практик, описанных в книге Реджинальда Даремского «Чудесные чудеса блаженного Катберта» . Он наблюдал, как аббат Эйлред из Риво был шокирован во время визита в Кирккадбрайт, Галлоуэй, ритуальным жертвоприношением быка, совершенном членами местной общины (Reginald of Durham 1835, 179).На первый взгляд это выглядит как классическое языческое жертвоприношение животных, подобное тем, которые широко осуждались церковными властями во время и сразу после христианского обращения. Однако при ближайшем рассмотрении этот ритуал оказывается более сложным. Его организовали так называемые «ученые» (или «сколлофты» согласно тексту) из религиозного дома Киркадбрайта, и, что самое интересное, бык был принесен в жертву святому Катберту, а не какому-либо языческому божеству. [3] Другими словами, внешние ритуальные формы, которые кажутся языческими, на самом деле выражали поклонение хорошо зарекомендовавшему себя христианскому святому.
Искушение здесь состоит в том, чтобы отделить христианина от язычника, разбив повествование обряда на фрагменты и проследив родословную каждого из них во времени. Тем не менее сложность этого рассказа предполагает, что этому искушению следует сопротивляться. Вместо того, чтобы пытаться обозначить каждую грань ритуала как «христианскую» или «языческую», мы должны изучать его как органическое целое, чтобы получить некоторое представление о его функции и о том, как его понимали члены сообщества. Поиски «морфологически» похожих примеров на больших участках пространства и времени вряд ли дадут ответы на подобные вопросы (Purkiss 2000, 7).Патрик Гири указывал, что средневековая религиозная культура была тесно взаимосвязана с другими аспектами жизни местных сообществ, с сельским хозяйством, социальной иерархией, семьей, законом, политикой (Geary 1994, 32–33). [4] Если мы примем эту идею «взаимосвязанности», будущие исследования могут, если позволяют источники, более глубоко изучить культуру конкретных местностей и регионов. Помещая более широкие аспекты повседневной жизни под увеличительное стекло историка, мы можем получить более четкое представление о более широкой системе верований, в которой находились определенные ритуалы или практики.
Местные религиозные культуры
Подобные догадки не решают проблемы соотношения религиозной культуры в этих общинах с культурой вселенской Церкви. Для этого нам нужно переосмыслить более широкую теорию и отойти от узких понятий «популярность» и «элита». Здесь нам может помочь модифицированная версия модели ранней современной культуры Питера Берка. Бёрк различал две культурные традиции: «большую традицию», взращенную посредством грамотности в школах и университетах, и «маленькую традицию», которая отличалась местными особенностями и поддерживалась устно среди неграмотных жителей местных сообществ (Берк, 1978, 22–8). .Эти традиции не были герметически запечатаны: хотя массы были по существу отрезаны от «большой» традиции, элита могла по своему желанию участвовать в «малой» традиции.
Эта модель не может быть применена к средневековой религиозной культуре. Верно то, что в монастырях и школах существовали значительные объемы сложных богословских знаний, и большая их часть никогда не просачивалась в приходы даже в самых зачаточных формах. Тем не менее, церковные институты не ставили своей целью сохранение предметов религиозной веры так же, как гимназии и университеты поддерживали элитарную культуру Берка.Христианство не было исключительной традицией. Скорее наоборот, монастыри, соборные школы и, особенно, структуры Церкви на уровне епархий и приходов задумывались в той или иной степени как средства распространения христианской веры и практики в мире. Р. И. Мур утверждал, что проповедь и обучение, особенно со стороны приходского священника, были предназначены для преодоления любого разрыва, который может существовать между позицией Церкви, с одной стороны, и верой и практикой в местных общинах, с другой (Moore 1994, 35).Такие импульсы служили разрушению культурных границ. Например, не было четкого различия между устной и письменной культурами. Устные отношения крестьянина могли быть и периодически фиксировались в письменном виде летописцами, составителями чудесных сборников и другими. Что еще более важно для распространения церковного учения, версии «письменной культуры» Церкви стали доступными для крестьян посредством декламации и проповеди с кафедры, что Д. Х. Грин называет «диагональными каналами коммуникации» (Green 1994, 169–72). ).
Такие выводы приводят нас к адаптированной версии модели Берка. В средневековой религиозной культуре можно выделить две традиции, но все членов средневекового общества участвовали в большей или меньшей степени в и из них. По сути, это итог работы В. А. Кристиана об испанской религии шестнадцатого века. Он подчеркивал «привязанный к месту» характер многих верований и обрядов и проводит различие между «всеобщей религией», основанной на таинствах, литургии и священном времени, и местной религией, основанной на святынях, изображениях, святых и реликвиях (Christian 1981a; 1981b; O). ‘Нил 1986, 222–25).Эта местная религия предлагала целый ряд превентивных и лечебных стратегий, начиная от шествий, вотивных месс и призывов к особым святым и заканчивая поисками признаков погоды и прогностическими лотереями, и все они формировались в соответствии с потребностями ближайшего сообщества.
Эти находки помогут нам задуматься о Средневековье. Систематические учения Церкви можно выделить с некоторой уверенностью в этот период, и мы, возможно, можем назвать их «официальным христианством». Такие учения смешивались на местах с изменчивыми и местными верованиями, которые не вырастали непосредственно из систематического учения Церкви.Эти верования существовали в промежутках между официальной верой и ритуалом, и церковники не обязательно видели в них языческие, нехристианские, еретические или ошибочные. У нас может возникнуть соблазн описать эти верования как «фольклор», но безопаснее было бы назвать их «неофициальными верованиями», потому что они не были просто достоянием «народа» (термин, который, я думаю, побуждает нас рассматривать верования как «массы», так же легко отделяющейся от «элиты»), но и многих образованных церковников.Само понятие «народа» и его «знаний» становится здесь неприятным. Хотя грань между официальным и неофициальным может показаться нам, вооруженным каноническими трактатами, проповедниками и покаяниями, четкой, она, вероятно, не была столь ясной для жителей местных общин. Мы также не можем предположить, что эти линии были четкими даже для епархиального духовенства, не говоря уже о приходском.
Ничто из этого не исключает потенциальной напряженности внутри системы убеждений. Возвращаясь к знакомому примеру, если мы еще раз рассмотрим жертвоприношение быка в Киркадбрайте, мы сможем начать различать сторонников различных культурных ценностей и возникающие между ними трения.С одной стороны, у нас есть наш автор Реджинальд, монах-бенедиктинец из Дарема. Он был другом Эйлреда из Риво, который приехал в Галлоуэй, чтобы посетить дом цистерцианцев в Дандренане. По пути Эйлред наткнулся на ритуальное жертвоприношение быка, проводимое «учеными» Кирккадбрайта. В этом рассказе мы находим, с одной стороны, строгую духовность замкнутых цистерцианцев, укорененную в вероисповедном христианстве и строгом подчинении их Уставу; культура, в которую аббат Эйлред был глубоко погружен с двадцати с небольшим лет.С другой стороны, мы находим сообщество независимых «ученых», монахов, не связанных ни с каким религиозным орденом, свободно практикующих местные ритуалы и активно вовлеченных в религиозную жизнь мирян, живущих вокруг них. Напряженность между этими двумя религиозными культурами обострялась этнической самобытностью. Уолтер Даниэль, еще один цистерцианец и биограф аббата Эйлреда, охарактеризовал Галлоуэй как «дикую страну, жители которой подобны зверям и в целом варвары» и отметил, как Риво «насадил» аббатство Дандреннан среди дикости распространения цистерцианского послания (Даниил 1950, 45–6).Таким образом, здесь мы имеем резкое столкновение между пламенным официальным христианством цистерцианцев и локализованным, синкретическим христианством общины с горной периферии. Однако встреча остра именно потому, что она предполагает сопоставление особенно (и необычно) концентрированных форм официальной и неофициальной веры.
Если мы отойдем от этого совпадения крайностей к Джеральду Уэльскому и обрядам на кладбище Святой Элунеды, то вырисовывается другая картина.Здесь у нас не старший и ревностный монах в новом реформаторском чине, а светский клирик, архидиакон, ответственный за пастырское попечение в маршах. Джеральд был хорошо знаком с каноническим правом и мог авторитетно высказываться о танцах на кладбищах при написании инструкций, но когда он встречал различные обычаи на местах, он был более терпимым. У Джеральда не было ресурсов, чтобы навязать церковный закон силой. Как церковник, работающий в общине, ему приходилось вести переговоры с официальными христианскими ценностями и ценностями общин, с которыми он сталкивался.В таких ситуациях неизбежно должен был быть культурный компромисс, и здесь мы, кажется, видим его. Джеральда интересовали основные элементы программы церковных реформ, такие как контроль мирян над церквями и соблюдение клерикального безбрачия (Bartlett 1982, 29–31). Там, где он находил новые ритуальные формулировки официальных христианских идей, его отношение было более расслабленным. Такой прагматизм, возможно, также был основан на различающей симпатии. Предположительно, но, тем не менее, возможно, что камбро-норманнское воспитание Джеральда и его карьера в Марках, возможно, впитали его в культуру этих мест и, следовательно, склонили его видеть эти ритуалы в более положительном свете.
Это, по общему признанию, слабое свидетельство, на котором можно основывать общие выводы. Если, тем не менее, мы на мгновение проследим эту линию, мы, возможно, все же сможем сказать кое-что о методе. Здесь возникают три вещи, каждая из которых в той или иной форме является аргументом в пользу большей контекстуализации. Во-первых, нам нужно думать о средневековой религиозной культуре как о смешении неофициальных и официальных верований, которые меняются в пространстве и времени, образуя не ряд культурных сегментов, а спектр. Этот спектр охватывает, хотя и на противоположных концах, верования как крестьян, так и прелатов (Van Engen 1986, 519–552; Duffy 1992).Во-вторых, опасно отгораживать «фольклор» как особый объект изучения и еще опаснее связывать этот термин с определенными социальными группами. Скорее нам следует рассматривать рассказы, которые мы склонны называть «фольклором», как аспекты более крупных культурных систем, объединяющих сообщества. Наконец, нам необходимо изучить отчеты о вере и практике в авторском контексте, принимая во внимание влияние жанра, авторских целей и, что, возможно, наиболее важно, культурного становления автора, а также сообщества, которое он описал.
Биографическая справка
Карл Уоткинс является членом Королевского колледжа в Кембридже.
Христианство и религиозная свобода в средневековье (476 – 1453 гг. н.э.)
Автор : David Little
Средневековье началось с упадком Римской империи в результате нашествий варваров. После этого и в течение нескольких столетий христианская церковь сыграла решающую роль в создании того, что стало известно как республика Кристиана .Он включал в постоянно меняющихся конфигурациях западный и восточный секторы бывшей Римской империи, а именно части Западной Европы и Византии, которые включали Малую Азию и большую часть территорий вокруг Средиземноморского края. Рим и Константинополь в конечном итоге стали соответственно центрами двух частей новой империи.
При таком устройстве, по-разному истолковываемом в двух секторах, гражданская и религиозная власти не были резко дифференцированы в соответствии с современными тенденциями, а понимались как два взаимозависимых «отдела» общего, всеобъемлющего предприятия.Соответственно, различие между «мечом» и «духом», между принуждением и верой, столь важное для раннего христианского опыта, сохранилось, хотя и в сильно замаскированной форме. В то время как отношения между духовной и политической властью были неизменно близкими, они также были антагонистическими, демонстрируя в разное время напряженную борьбу за религиозную власть и политическую власть.
На Западе Карлу Великому удалось к девятому веку объединить разрозненные варварские королевства Западной Европы в централизованную христианскую империю, в которой он стал фактическим главой церкви.Политическая власть рассматривалась как подходящее средство для распространения, регулирования и защиты христианской веры и практики. Эта закономерность достигла своего наивысшего выражения к одиннадцатому-тринадцатому векам, когда папы, сменившие королей в качестве высшей власти в Западной империи, стали иметь последнее слово в отношении применения силы. Результатом стали христианские крестовые походы, которые представляли собой вооруженные вторжения на земли, находившиеся под контролем как восточных христиан, так и мусульман. Целью этих крестовых походов было обращение нехристиан, а также возвращение земель, на которых зародилось христианство, утраченных с годами исламскими завоевателями.В этот период папского господства также проводилась политика жестоких религиозных репрессий, известная как «инквизиция», которая была начата в тринадцатом веке и достигла кульминации в Испании в пятнадцатом веке.
Эта политика не осталась без ответа. В тринадцатом веке Фома Аквинский выдвинул мощное, но ограниченное учение о свободе совести. Основываясь на несовместимости веры и принуждения, подтвержденной молодым Августином, Фома утверждал, что все люди, христиане или нет, имеют моральный долг следовать даже ошибочной совести.Этот принцип применялся ко всем, кто никогда ранее не знакомился с христианским посланием, например к мусульманам и язычникам. Это не относится, подумал Фома, к перебежчикам-христианам — еретикам и отступникам, — которые, как и все, кто нарушает торжественную клятву, должны быть наказаны. Он также не создал политического или гражданского «права» на ошибку, потому что, как утверждал Фома Аквинский, плохо сформированная совесть может привести к греховным действиям и, например, может привести других к тяжким грехам. Аквинский даже сравнил еретические верования с фальшивыми деньгами, предполагая, что они наносят ущерб «общественному благу» общих ортодоксальных верований внутри Церкви.Он также надеялся, что в процессе противостояния еретики и отступники вернутся к истинной вере. Таким образом, Аквинский повелел церкви сначала увещевать еретика, прежде чем подвергать его отлучению от церкви и светским властям.
К четырнадцатому веку концепция верховенства папы — папы как преемника Петра — оспаривалась на Западе соборным движением. Некоторые утверждали, что представительные соборы обладают последней властью в церковных делах. Существование соборов подразумевало конституционный строй, включающий набор прав, которые приписывались рядовым членам и низшим церковным сановникам.Соборники также подчеркивали большее различие между церковным и гражданским управлением и повышали важность территориальных церквей. Движение никогда не имело большего, чем статус меньшинства в западном христианстве, хотя оно оказало несоразмерное влияние на протестантскую Реформацию и, в конечном итоге, на форму, которую в результате приняла религиозная свобода.
Соборность более успешно прижилась в восточном христианстве, хотя и в форме, очень отличной от западной.Это было одной из причин, по которой два крыла средневекового христианства разделились в одиннадцатом веке. Восточное православие разделяло консилиаристское предпочтение представительного и совещательного правительства над папской властью, но они приняли систему территориальных церквей задолго до и намного дальше всего, что могло бы развиться на Западе.
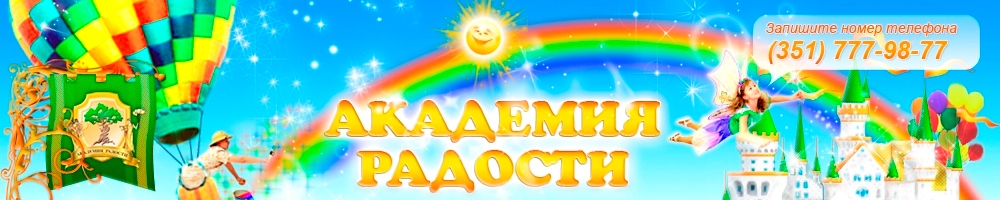
 Мы знаем её по немногим уцелевшим образцам. Варвары уничтожили александрийскую библиотеку: это были не арабы, а христианские фанатики; христианские рыцари уничтожили в Византии остатки греческой письменности. Немногие дошедшие до нас книги переписывали монахи, единственно грамотные люди тёмных Веков. Дошли до нас самые популярные авторы, которых переписывали чаще всего. Среди них были некоторые из лучших писателей, но мы слишком хорошо знаем, что другие, не менее важные авторы никогда не бывают популярны; чаще всего мы знаем лишь их имена, или случайные цитаты из их сочинений. Поэмы Гомера и Гесиода, пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана остаются непревзойдёнными творениями мировой литературы. До нас дошли книги Геродота и Фукидида, но почти все труды других историков утрачены — приходится довольствоваться компиляциями, из которых также уцелели отдельные куски.
Мы знаем её по немногим уцелевшим образцам. Варвары уничтожили александрийскую библиотеку: это были не арабы, а христианские фанатики; христианские рыцари уничтожили в Византии остатки греческой письменности. Немногие дошедшие до нас книги переписывали монахи, единственно грамотные люди тёмных Веков. Дошли до нас самые популярные авторы, которых переписывали чаще всего. Среди них были некоторые из лучших писателей, но мы слишком хорошо знаем, что другие, не менее важные авторы никогда не бывают популярны; чаще всего мы знаем лишь их имена, или случайные цитаты из их сочинений. Поэмы Гомера и Гесиода, пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана остаются непревзойдёнными творениями мировой литературы. До нас дошли книги Геродота и Фукидида, но почти все труды других историков утрачены — приходится довольствоваться компиляциями, из которых также уцелели отдельные куски. Работы величайших греческих учёных, Архимеда и Аполлония из Перги, сохранились лишь частично; с них и началась наука Нового времени. Работа Аристарха Самосского, утверждавшего, что Земля вращается вокруг Солнца, утрачена: мы знаем о ней лишь со слов Архимеда. Утрачены труды Левкиппа и Демокрита, развивавших атомную теорию вещества. Из всех греческих философов до нас дошли, по существу, только Платон и Аристотель; остальные известны лишь по отрывкам и цитатам. Христиане уважали Платона, потому что многие «отцы церкви» получили образование у его эпигонов, а сочинения Аристотеля, по исторической случайности, приобрели у христианских богословов особый авторитет, поскольку их уважали мусульманские богословы в Испании, откуда они получили эти книги в арабском переводе. Мусульмане же почитали Аристотеля не столько за его философию, сколько в качестве учителя Искандера, Александра Македонского, оставшегося на Востоке сказочным героем до настоящего времени. Философия Платона — его пресловутая «теория идей» — была сильным препятствием для научного исследования природы, а компилятор и систематик Аристотель заслонил от европейцев всех оригинальных мыслителей древности.
Работы величайших греческих учёных, Архимеда и Аполлония из Перги, сохранились лишь частично; с них и началась наука Нового времени. Работа Аристарха Самосского, утверждавшего, что Земля вращается вокруг Солнца, утрачена: мы знаем о ней лишь со слов Архимеда. Утрачены труды Левкиппа и Демокрита, развивавших атомную теорию вещества. Из всех греческих философов до нас дошли, по существу, только Платон и Аристотель; остальные известны лишь по отрывкам и цитатам. Христиане уважали Платона, потому что многие «отцы церкви» получили образование у его эпигонов, а сочинения Аристотеля, по исторической случайности, приобрели у христианских богословов особый авторитет, поскольку их уважали мусульманские богословы в Испании, откуда они получили эти книги в арабском переводе. Мусульмане же почитали Аристотеля не столько за его философию, сколько в качестве учителя Искандера, Александра Македонского, оставшегося на Востоке сказочным героем до настоящего времени. Философия Платона — его пресловутая «теория идей» — была сильным препятствием для научного исследования природы, а компилятор и систематик Аристотель заслонил от европейцев всех оригинальных мыслителей древности. В 1204 году христианские рыцари, взяв штурмом Византию, бросали в огонь греческие книги, написанные непонятными буквами и содержавшие, по их мнению, православную ересь. В этот день мы лишились почти всего, что осталось от древней культуры. Всё, что мы о ней знаем, сохранили беглецы.
В 1204 году христианские рыцари, взяв штурмом Византию, бросали в огонь греческие книги, написанные непонятными буквами и содержавшие, по их мнению, православную ересь. В этот день мы лишились почти всего, что осталось от древней культуры. Всё, что мы о ней знаем, сохранили беглецы. Римская культура была подражательной: при большом объёме деятельности, римляне проявили мало творческих способностей. Они усваивали греческие идеи и применяли их на практике: можно сказать, что это была нация инженеров. Впрочем, нельзя утверждать, что римляне сами проектировали свои знаменитые здания (обычно дурных пропорций, с безвкусными украшениями), что они сами изобрели арочный свод и сферический купол. Ведь у них были греческие рабы и наёмные специалисты, имена которых не назывались. Витрувий был автор учебника и не претендовал ни на какие новшества. Во всяком случае, почти все римские скульптуры были копиями или подражаниями греческим образцам, и делали их греки. Римская литература, по-видимому, всегда может быть возведена к греческим прообразам; если это не удаётся, то можно подозревать, что мы просто не знаем этих образцов. Трудно найти что-нибудь оригинальное у Марка Аврелия, писавшего по-гречески; вряд ли его мысли сохранились бы, не будь он император. Лукреций изложил по-латыни философию Эпикура; Цицерон и Сенека были компиляторы греческих философов, Плавт и Теренций — компиляторы греческих драматургов.
Римская культура была подражательной: при большом объёме деятельности, римляне проявили мало творческих способностей. Они усваивали греческие идеи и применяли их на практике: можно сказать, что это была нация инженеров. Впрочем, нельзя утверждать, что римляне сами проектировали свои знаменитые здания (обычно дурных пропорций, с безвкусными украшениями), что они сами изобрели арочный свод и сферический купол. Ведь у них были греческие рабы и наёмные специалисты, имена которых не назывались. Витрувий был автор учебника и не претендовал ни на какие новшества. Во всяком случае, почти все римские скульптуры были копиями или подражаниями греческим образцам, и делали их греки. Римская литература, по-видимому, всегда может быть возведена к греческим прообразам; если это не удаётся, то можно подозревать, что мы просто не знаем этих образцов. Трудно найти что-нибудь оригинальное у Марка Аврелия, писавшего по-гречески; вряд ли его мысли сохранились бы, не будь он император. Лукреций изложил по-латыни философию Эпикура; Цицерон и Сенека были компиляторы греческих философов, Плавт и Теренций — компиляторы греческих драматургов. Боэций, считающийся римским философом, через семьсот лет после Архимеда не умел вычислить площадь треугольника! По-видимому, практичных римлян интересовало только приобретение и удержание собственности: они были солдаты и юристы, политики и администраторы. Конечно, они распространили свою культуру на всю территорию завоеванных стран, оказав этим значительное влияние на всё дальнейшее развитие Европы, и не только Европы. Но сама эта культура была эклектическим сооружением из грубого латинского материала и приспособленных к нему греческих деталей. Оно было построено с большим запасом прочности, но без той гибкости и подвижности, которые даются только свободой.
Боэций, считающийся римским философом, через семьсот лет после Архимеда не умел вычислить площадь треугольника! По-видимому, практичных римлян интересовало только приобретение и удержание собственности: они были солдаты и юристы, политики и администраторы. Конечно, они распространили свою культуру на всю территорию завоеванных стран, оказав этим значительное влияние на всё дальнейшее развитие Европы, и не только Европы. Но сама эта культура была эклектическим сооружением из грубого латинского материала и приспособленных к нему греческих деталей. Оно было построено с большим запасом прочности, но без той гибкости и подвижности, которые даются только свободой.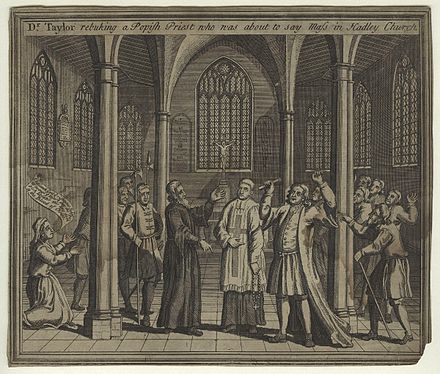 Таким образом, результат голосования зависел лишь от двух самых богатых классов. Обсуждения вопросов не было: народ мог только одобрить или нет предложения должностных лиц. Местом обсуждения был Сенат, где заседали сначала только патриции, а потом также самые богатые из плебеев. Римская республика никогда не была демократией, а сменившая её империя была военной диктатурой, в конечном счёте закрепостившей всё население. Римский плебс боролся за свободу, но ни разу её не достиг.
Таким образом, результат голосования зависел лишь от двух самых богатых классов. Обсуждения вопросов не было: народ мог только одобрить или нет предложения должностных лиц. Местом обсуждения был Сенат, где заседали сначала только патриции, а потом также самые богатые из плебеев. Римская республика никогда не была демократией, а сменившая её империя была военной диктатурой, в конечном счёте закрепостившей всё население. Римский плебс боролся за свободу, но ни разу её не достиг. Символом её был старый воин Цинциннат: когда сенаторы пришли к нему со знаками диктатуры, они нашли его в поле за плугом, и он дважды сложил с себя звание диктатора, выполнив свой долг. Это было в V веке до новой эры, и вряд ли это выдумано: такое выдумать нельзя. Когда не стало свободных граждан, государство перестало быть «общим делом» (res publica), и защита его больше не интересовала простого человека, привыкшего полагаться на попечение власть имущих. Солдат пришлось нанимать: в Греции это началось уже в IV веке до новой эры, а в Риме в I веке новой эры. При серьёзной военной опасности наёмная армия ненадёжна, особенно если ей нечем платить; и, независимо от внешней опасности, она сама становится главной опасностью для государства, устраивая военные перевороты и приводя к власти своих предводителей. Это означает конец гражданского общества.
Символом её был старый воин Цинциннат: когда сенаторы пришли к нему со знаками диктатуры, они нашли его в поле за плугом, и он дважды сложил с себя звание диктатора, выполнив свой долг. Это было в V веке до новой эры, и вряд ли это выдумано: такое выдумать нельзя. Когда не стало свободных граждан, государство перестало быть «общим делом» (res publica), и защита его больше не интересовала простого человека, привыкшего полагаться на попечение власть имущих. Солдат пришлось нанимать: в Греции это началось уже в IV веке до новой эры, а в Риме в I веке новой эры. При серьёзной военной опасности наёмная армия ненадёжна, особенно если ей нечем платить; и, независимо от внешней опасности, она сама становится главной опасностью для государства, устраивая военные перевороты и приводя к власти своих предводителей. Это означает конец гражданского общества. Римляне презирали покорённых ими греков, называя их уменьшительной кличкой graeculus, «гречик»: они видели в греке ненадёжного, продажного человека, слово которого ничего не стоит. Через триста лет такими же стали они сами, и по той же причине. Презрение к личному труду означало, что без него можно было обойтись, то есть можно было заменить его рабским трудом. А поскольку уже господствовало денежное хозяйство, это, в свою очередь, означало, что рабский труд был дешевле свободного труда. Почти непрерывные войны доставляли все новые партии живого товара; были постоянные рынки, где рабов продавали, а затем доставляли во все места, где на них был спрос. В Греции, где были мастера высокой квалификации, рабы всё же не могли полностью заменить свободный труд. Но в Риме, в период завоеваний, целые армии дешёвых рабов совсем вытеснили свободного производителя. Бoльшая часть Италии и вся Сицилия превратились в латифундии и пастбища, обслуживаемые рабами. Римские «пролетарии» стали паразитами государства; чтобы удержать их в спокойствии, им бесплатно раздавали продовольствие и билеты в цирк, откуда и произошло известное требование черни: «хлеба и зрелищ».
Римляне презирали покорённых ими греков, называя их уменьшительной кличкой graeculus, «гречик»: они видели в греке ненадёжного, продажного человека, слово которого ничего не стоит. Через триста лет такими же стали они сами, и по той же причине. Презрение к личному труду означало, что без него можно было обойтись, то есть можно было заменить его рабским трудом. А поскольку уже господствовало денежное хозяйство, это, в свою очередь, означало, что рабский труд был дешевле свободного труда. Почти непрерывные войны доставляли все новые партии живого товара; были постоянные рынки, где рабов продавали, а затем доставляли во все места, где на них был спрос. В Греции, где были мастера высокой квалификации, рабы всё же не могли полностью заменить свободный труд. Но в Риме, в период завоеваний, целые армии дешёвых рабов совсем вытеснили свободного производителя. Бoльшая часть Италии и вся Сицилия превратились в латифундии и пастбища, обслуживаемые рабами. Римские «пролетарии» стали паразитами государства; чтобы удержать их в спокойствии, им бесплатно раздавали продовольствие и билеты в цирк, откуда и произошло известное требование черни: «хлеба и зрелищ». Итак, с экономической стороны свободный гражданин стал лишним. Он мог быть только надсмотрщиком над рабами, чиновником или офицером, а вся государственная машина, прежде спаянная общим интересом, держалась теперь только насилием. Но оказалось, что одним принуждением государство жить не может. Государство с умирающей культурой должно погибнуть: мы живём как раз в такую эпоху, когда это нетрудно понять.
Итак, с экономической стороны свободный гражданин стал лишним. Он мог быть только надсмотрщиком над рабами, чиновником или офицером, а вся государственная машина, прежде спаянная общим интересом, держалась теперь только насилием. Но оказалось, что одним принуждением государство жить не может. Государство с умирающей культурой должно погибнуть: мы живём как раз в такую эпоху, когда это нетрудно понять.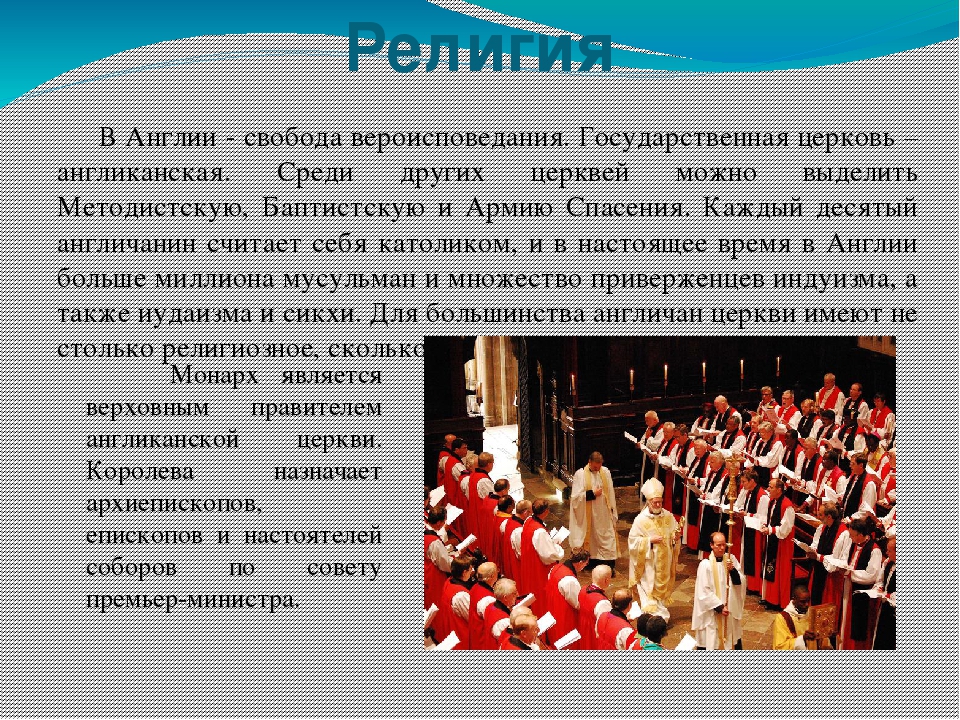 Соблазн оказался опасным, потому что самое надёжное знание явилось и самым первым — это была математика; можно было думать, что в этом случае знание получается без всякого опыта, усилием чистого разума. Этот путь и указал божественный Платон, самым серьёзным образом настаивавший, чтобы астрономы не наблюдали небо. Художники тоже потеряли стимулы к творчеству, потому что их публика утратила интерес ко всему серьёзному — у нас в России такая публика называется «мещанской». Комедии Менандра изображают нам греческих мещан, устраивающих свои нехитрые дела и далёких от каких-нибудь неличных интересов. Уже тогда они полагали, что всё остальное надо предоставить руководству.
Соблазн оказался опасным, потому что самое надёжное знание явилось и самым первым — это была математика; можно было думать, что в этом случае знание получается без всякого опыта, усилием чистого разума. Этот путь и указал божественный Платон, самым серьёзным образом настаивавший, чтобы астрономы не наблюдали небо. Художники тоже потеряли стимулы к творчеству, потому что их публика утратила интерес ко всему серьёзному — у нас в России такая публика называется «мещанской». Комедии Менандра изображают нам греческих мещан, устраивающих свои нехитрые дела и далёких от каких-нибудь неличных интересов. Уже тогда они полагали, что всё остальное надо предоставить руководству. Я уже назвал эту империю жалкой, и сейчас объясню, почему. Она существовала более тысячи лет, с V века до 1453 года, когда турки прекратили её бессмысленное существование. Территория её постепенно сокращалась, но Константинополь — как называли прежний Византий — оставался самым большим городом на свете, кроме, может быть, городов Китая. В этой империи процветали ремесла, производились великолепные ткани, металлические и гончарные изделия, предметы роскоши; жители столицы увлекались политикой и спортом, но политика сводилась к дворцовым переворотам, а спорт — к обычному в наше время культу чемпионов. И за тысячу лет греки не совершили ничего нового ни в науке, ни в литературе, ни в искусстве — ни даже в религии. Они только хранили и почитали своё прошлое, насколько это дозволяла церковь, и насколько они способны были понять своих предков: они цеплялись за славные имена, за установленные репутации. По языку и обычаям это были те же греки, но утратившие всякую любознательность, всякую живость ума.
Я уже назвал эту империю жалкой, и сейчас объясню, почему. Она существовала более тысячи лет, с V века до 1453 года, когда турки прекратили её бессмысленное существование. Территория её постепенно сокращалась, но Константинополь — как называли прежний Византий — оставался самым большим городом на свете, кроме, может быть, городов Китая. В этой империи процветали ремесла, производились великолепные ткани, металлические и гончарные изделия, предметы роскоши; жители столицы увлекались политикой и спортом, но политика сводилась к дворцовым переворотам, а спорт — к обычному в наше время культу чемпионов. И за тысячу лет греки не совершили ничего нового ни в науке, ни в литературе, ни в искусстве — ни даже в религии. Они только хранили и почитали своё прошлое, насколько это дозволяла церковь, и насколько они способны были понять своих предков: они цеплялись за славные имена, за установленные репутации. По языку и обычаям это были те же греки, но утратившие всякую любознательность, всякую живость ума. Христианская религия превратилась у них в догматическую систему суеверий, без следа милосердия: император Василий, прозванный Болгаробойцей, ослепил десять тысяч пленных болгар и велел отвести их на родину, в назидание сородичам. Церковь поощряла умственную апатию: одна из христианских добродетелей носила в Византии название, в буквальном переводе означающее «тупоумие».
Христианская религия превратилась у них в догматическую систему суеверий, без следа милосердия: император Василий, прозванный Болгаробойцей, ослепил десять тысяч пленных болгар и велел отвести их на родину, в назидание сородичам. Церковь поощряла умственную апатию: одна из христианских добродетелей носила в Византии название, в буквальном переводе означающее «тупоумие». В частности, в христианской церкви, наподобие еврейской, возникло сословие жрецов, установивших жёсткую систему догм, именуемую «теологией». В борьбе с «ересями» у этой церкви выработалась нетерпимость ко всякой самостоятельной мысли: даже если эта мысль и не относилась к религии, самостоятельно мыслящий человек был опасен, поскольку любое новшество могло превратиться в ересь. Мы знаем по собственному опыту, чтo означает «идеологическая цензура», и может показаться, будто мы нашли объяснение духовной кастрации греков. Эту сторону дела ясно видел Гиббон, исследовавший упадок Римской империи. Но, по-видимому, здесь был сложный процесс, в котором новая религия взаимодействовала с новым складом мышления и чувствования, зародившимся до неё и независимо от неё, искавшим «спасения» в различных суевериях, не только заимствованных, но и местных. Ведь у греков, наряду с официальным культом олимпийских богов, были «элевсинские мистерии», пифагорейство и другие, более вульгарные секты, которые изобразил Лукиан.
В частности, в христианской церкви, наподобие еврейской, возникло сословие жрецов, установивших жёсткую систему догм, именуемую «теологией». В борьбе с «ересями» у этой церкви выработалась нетерпимость ко всякой самостоятельной мысли: даже если эта мысль и не относилась к религии, самостоятельно мыслящий человек был опасен, поскольку любое новшество могло превратиться в ересь. Мы знаем по собственному опыту, чтo означает «идеологическая цензура», и может показаться, будто мы нашли объяснение духовной кастрации греков. Эту сторону дела ясно видел Гиббон, исследовавший упадок Римской империи. Но, по-видимому, здесь был сложный процесс, в котором новая религия взаимодействовала с новым складом мышления и чувствования, зародившимся до неё и независимо от неё, искавшим «спасения» в различных суевериях, не только заимствованных, но и местных. Ведь у греков, наряду с официальным культом олимпийских богов, были «элевсинские мистерии», пифагорейство и другие, более вульгарные секты, которые изобразил Лукиан. Об этой духовной потребности ещё будет речь.
Об этой духовной потребности ещё будет речь. Разумную упряжь изобрели только в средние века.
Разумную упряжь изобрели только в средние века. Все это напоминает ацтеков, у которых были игрушечные тележки, но все грузы перевозились вьюками: считается, что они «не знали колеса». Мы смотрим на этих индейцев с насмешкой, но ведь у них мог быть свой Герон.
Все это напоминает ацтеков, у которых были игрушечные тележки, но все грузы перевозились вьюками: считается, что они «не знали колеса». Мы смотрим на этих индейцев с насмешкой, но ведь у них мог быть свой Герон. Тем самым христианская религия начала радикальную глобализацию социального инстинкта, в чём и состоит её главное значение. Как признают все христиане, основным этическим принципом этой религии является «любовь к ближнему», не ограниченная ни происхождением, ни социальным положением человека. Это было коренное изменение культурной традиции, и поскольку в то время никакое изменение традиции не могло осуществиться без санкции свыше, это означало создание новой религии. Греки, римляне и многие другие народы Римской империи бессознательно искали уже такую религию: это стремление воспринималось как «жажда спасения». Конечно, исходные мотивы религиозного движения лишь косвенно относились к его историческому результату — так всегда бывало в истории.
Тем самым христианская религия начала радикальную глобализацию социального инстинкта, в чём и состоит её главное значение. Как признают все христиане, основным этическим принципом этой религии является «любовь к ближнему», не ограниченная ни происхождением, ни социальным положением человека. Это было коренное изменение культурной традиции, и поскольку в то время никакое изменение традиции не могло осуществиться без санкции свыше, это означало создание новой религии. Греки, римляне и многие другие народы Римской империи бессознательно искали уже такую религию: это стремление воспринималось как «жажда спасения». Конечно, исходные мотивы религиозного движения лишь косвенно относились к его историческому результату — так всегда бывало в истории. Но это учение было адресовано скорее одиноким отшельникам, чем простым людям, и в своём чистом виде не могло стать массовой религией; вероятно, индийские идеи повлияли через Пифагора на греческую философию. Христианство конкурировало с другими религиями, особенно с персидским культом Митры, и одержало над ними верх благодаря своим психологическим преимуществам.
Но это учение было адресовано скорее одиноким отшельникам, чем простым людям, и в своём чистом виде не могло стать массовой религией; вероятно, индийские идеи повлияли через Пифагора на греческую философию. Христианство конкурировало с другими религиями, особенно с персидским культом Митры, и одержало над ними верх благодаря своим психологическим преимуществам. В столице Египта Александрии примерно равные доли населения составляли греки, евреи и коренные египтяне, с заметной прибавкой римлян, так что в этом космополитическом городе звучали четыре языка, и вдобавок языки рабов, матросов и купцов со всех концов Средиземного моря. Греки из разных частей Эллады смешались, их прежние диалекты слились в общегреческий простонародный язык «койне»; вместо покровительства местных богов им пришлось довольствоваться общей «олимпийской» религией, уже испытавшей египетское влияние. Даже евреи, фанатически преданные своему единому богу, уже перестали понимать язык Библии и говорили по-гречески, так что для них пришлось перевести их священное писание на чужой язык. Таким образом, Римское государство, облегчившее миграцию населения и торговлю, создало космополитическую среду, в значительной мере потерявшую прежние религии, но, конечно, суеверную и нуждавшуюся в новой культурной традиции, которую могла дать лишь новая религия.
В столице Египта Александрии примерно равные доли населения составляли греки, евреи и коренные египтяне, с заметной прибавкой римлян, так что в этом космополитическом городе звучали четыре языка, и вдобавок языки рабов, матросов и купцов со всех концов Средиземного моря. Греки из разных частей Эллады смешались, их прежние диалекты слились в общегреческий простонародный язык «койне»; вместо покровительства местных богов им пришлось довольствоваться общей «олимпийской» религией, уже испытавшей египетское влияние. Даже евреи, фанатически преданные своему единому богу, уже перестали понимать язык Библии и говорили по-гречески, так что для них пришлось перевести их священное писание на чужой язык. Таким образом, Римское государство, облегчившее миграцию населения и торговлю, создало космополитическую среду, в значительной мере потерявшую прежние религии, но, конечно, суеверную и нуждавшуюся в новой культурной традиции, которую могла дать лишь новая религия. Напротив, в сельских местностях язычество держалось дольше всего, откуда и возникло латинское название язычника paganus, что первоначально означало «сельский житель». В Риме христианство привилось не сразу: там было однородное большинство латинского населения, и власти препятствовали введению чужих культов. В Иерусалиме, где была первая христианская община, новая секта быстро угасла: у евреев была единственная в своём роде теология и каста жрецов, следивших за правоверием. Возглавлявший эту общину евреев-христиан Яков, считающийся братом Христа, был побит камнями. И хотя Иудея была в то время местом интенсивного религиозного движения, ереси еврейской религии всегда угасали, и эта религия не раскалывалась. Только одна секта христиан (которых евреи называли «миним») уцелела, перейдя к язычникам. Её успех нуждается в объяснении.
Напротив, в сельских местностях язычество держалось дольше всего, откуда и возникло латинское название язычника paganus, что первоначально означало «сельский житель». В Риме христианство привилось не сразу: там было однородное большинство латинского населения, и власти препятствовали введению чужих культов. В Иерусалиме, где была первая христианская община, новая секта быстро угасла: у евреев была единственная в своём роде теология и каста жрецов, следивших за правоверием. Возглавлявший эту общину евреев-христиан Яков, считающийся братом Христа, был побит камнями. И хотя Иудея была в то время местом интенсивного религиозного движения, ереси еврейской религии всегда угасали, и эта религия не раскалывалась. Только одна секта христиан (которых евреи называли «миним») уцелела, перейдя к язычникам. Её успех нуждается в объяснении. Это объяснение отнюдь не является тавтологией, то есть не сводится к перемене названий. Оно позволяет, например, понять, что и «любовь», и «ненависть» принципиально неустранимы, потому что неустранимы порождающие их отдельные инстинкты. Нельзя толковать «ненависть» как «недостаток любви», наподобие того как «холод» объясняется в физике недостатком тепла. Поэтому нельзя рассчитывать на будущее «царство любви», то есть на общество, где вовсе не будет «ненависти». Приходится примириться с биологической неизбежностью обеих эмоций и научиться ими владеть. Конечно, понимание этого древним было недоступно, что и сделало возможной христианскую религию с её утопическим толкованием «любви к ближним».
Это объяснение отнюдь не является тавтологией, то есть не сводится к перемене названий. Оно позволяет, например, понять, что и «любовь», и «ненависть» принципиально неустранимы, потому что неустранимы порождающие их отдельные инстинкты. Нельзя толковать «ненависть» как «недостаток любви», наподобие того как «холод» объясняется в физике недостатком тепла. Поэтому нельзя рассчитывать на будущее «царство любви», то есть на общество, где вовсе не будет «ненависти». Приходится примириться с биологической неизбежностью обеих эмоций и научиться ими владеть. Конечно, понимание этого древним было недоступно, что и сделало возможной христианскую религию с её утопическим толкованием «любви к ближним». Последняя причина объясняет, почему все лидеры бедных, от Солона до Маркса, были выходцы из другого класса. Сословное общество рушилось под действием денег, и во всех государствах разгорелась яростная классовая борьба: примеры предыдущей главы нетрудно было бы умножить. Те, кто считает классовую борьбу выдумкой социалистов, не читали ни Фукидида, ни Тита Ливия, а заимствуют свои представления у журналистов. Чтобы избежать гражданских конфликтов, правящие классы древности — то есть богатые — прибегали к двум средствам: либо пытались избавиться от излишка бедного населения с помощью вывода колоний, либо направляли внимание народа на какого-нибудь «внешнего врага» и провоцировали войну. Вряд ли надо объяснять, что эта политика не всегда была сознательной, даже в Новой истории. Но в ряде случаев можно отчётливо проследить связь между внутренним напряжением и внешними предприятиями, особенно в хорошо известной нам истории Афин. Возможности колонизации были ограничены, а борьба за колонии и выгодные пути к ним, опять-таки, приводила к войне.
Последняя причина объясняет, почему все лидеры бедных, от Солона до Маркса, были выходцы из другого класса. Сословное общество рушилось под действием денег, и во всех государствах разгорелась яростная классовая борьба: примеры предыдущей главы нетрудно было бы умножить. Те, кто считает классовую борьбу выдумкой социалистов, не читали ни Фукидида, ни Тита Ливия, а заимствуют свои представления у журналистов. Чтобы избежать гражданских конфликтов, правящие классы древности — то есть богатые — прибегали к двум средствам: либо пытались избавиться от излишка бедного населения с помощью вывода колоний, либо направляли внимание народа на какого-нибудь «внешнего врага» и провоцировали войну. Вряд ли надо объяснять, что эта политика не всегда была сознательной, даже в Новой истории. Но в ряде случаев можно отчётливо проследить связь между внутренним напряжением и внешними предприятиями, особенно в хорошо известной нам истории Афин. Возможности колонизации были ограничены, а борьба за колонии и выгодные пути к ним, опять-таки, приводила к войне. В истории Греции междоусобные войны выглядят как патологическое явление, в конечном счёте сгубившее греческую культуру.
В истории Греции междоусобные войны выглядят как патологическое явление, в конечном счёте сгубившее греческую культуру. В социальном смысле он был бесправен и слаб: сила и право были тогда на стороне богатства, ещё больше, чем сейчас. Его не защищала даже юридическая фикция «равенства перед законом», которая ещё не была изобретена. В больших городах Ближнего Востока, где возникло христианство, неравенство было слишком очевидно. Это было смешанное общество из людей разного происхождения и положения, уже непохожее на патриархальное общество с его сакральным, освящённым веками строем жизни. Богатый и сильный, противостоявший здесь бедному и слабому, был ему чужой, не вызывал у него традиционного почтения. Подсознательное, а часто и сознательное негодование против асоциальных паразитов, бесстыдно демонстрировавших свои преимущества, вызывало у него агрессивность, сдерживаемую только страхом наказания. Вынужденное сдерживание этого инстинкта воспринималось как унижение, а подавленная агрессивность, усиленная скученностью городской жизни, переходила в ненависть — ту самую, которая называется классовой ненавистью.
В социальном смысле он был бесправен и слаб: сила и право были тогда на стороне богатства, ещё больше, чем сейчас. Его не защищала даже юридическая фикция «равенства перед законом», которая ещё не была изобретена. В больших городах Ближнего Востока, где возникло христианство, неравенство было слишком очевидно. Это было смешанное общество из людей разного происхождения и положения, уже непохожее на патриархальное общество с его сакральным, освящённым веками строем жизни. Богатый и сильный, противостоявший здесь бедному и слабому, был ему чужой, не вызывал у него традиционного почтения. Подсознательное, а часто и сознательное негодование против асоциальных паразитов, бесстыдно демонстрировавших свои преимущества, вызывало у него агрессивность, сдерживаемую только страхом наказания. Вынужденное сдерживание этого инстинкта воспринималось как унижение, а подавленная агрессивность, усиленная скученностью городской жизни, переходила в ненависть — ту самую, которая называется классовой ненавистью.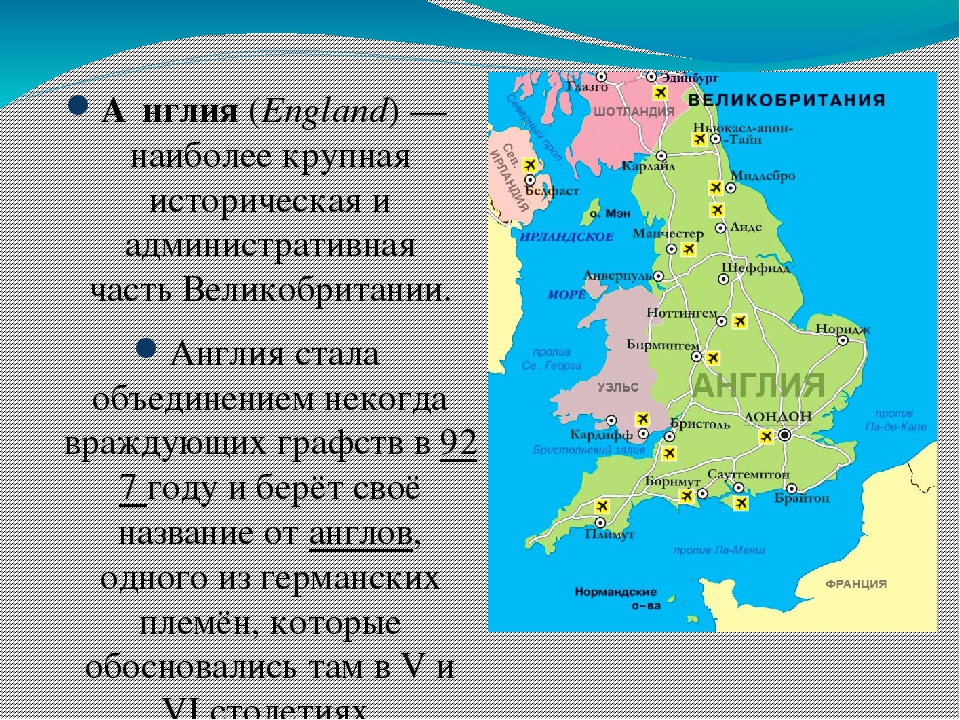
 Вообще, ценности классового общества чаще всего формируются как ценности его господ, распространяясь затем на подсознательные установки всех его членов. В столкновении бедного и слабого с богатым и сильным обе стороны могли держаться одного и того же подсознательного представления, кто из них «лучше». У бедного не было психической установки, с которой он мог бы положительно оценить самого себя. Христос дал ему такую установку, предписав ему любить всех ближних, в том числе и своих врагов. 45
Вообще, ценности классового общества чаще всего формируются как ценности его господ, распространяясь затем на подсознательные установки всех его членов. В столкновении бедного и слабого с богатым и сильным обе стороны могли держаться одного и того же подсознательного представления, кто из них «лучше». У бедного не было психической установки, с которой он мог бы положительно оценить самого себя. Христос дал ему такую установку, предписав ему любить всех ближних, в том числе и своих врагов. 45 Поэтому «чистый» буддизм и не стал массовой религией. Для простых людей его превратили в грубое идолопоклонство под названием «махаяна».
Поэтому «чистый» буддизм и не стал массовой религией. Для простых людей его превратили в грубое идолопоклонство под названием «махаяна». В действительности христианин мог любить не больше людей, чем язычник, но радикально менялась его сознательная установка по отношению к людям, влиявшая в некоторой мере и на его подсознание. Поскольку «любовь к ближним» предписывалась религией, он должен был соблюдать некоторые правила обращения с этими ближними, или делать вид, что их соблюдает — перед другими и перед самим собой. Это не только облегчало бремя ненависти, угнетавшее бедного, но и давало ему ощущение превосходства: христианин мог считать себя праведником — каким должен быть человек, а своего угнетателя грешником — каким человек быть не должен. Отныне лучшим человеком был он. Мечта о лучшем мире, где «последние станут первыми, а первые — последними», переместилась в призрачный мир религиозных фантазий и оставалась там две тысячи лет.
В действительности христианин мог любить не больше людей, чем язычник, но радикально менялась его сознательная установка по отношению к людям, влиявшая в некоторой мере и на его подсознание. Поскольку «любовь к ближним» предписывалась религией, он должен был соблюдать некоторые правила обращения с этими ближними, или делать вид, что их соблюдает — перед другими и перед самим собой. Это не только облегчало бремя ненависти, угнетавшее бедного, но и давало ему ощущение превосходства: христианин мог считать себя праведником — каким должен быть человек, а своего угнетателя грешником — каким человек быть не должен. Отныне лучшим человеком был он. Мечта о лучшем мире, где «последние станут первыми, а первые — последними», переместилась в призрачный мир религиозных фантазий и оставалась там две тысячи лет. И в самом деле, генетические различия в силе человеческих инстинктов почти однозначно подсказывали такой компромисс.
И в самом деле, генетические различия в силе человеческих инстинктов почти однозначно подсказывали такой компромисс. В некотором смысле еврейская религия была самой развитой: в ней уже было установлено строгое единобожие, а бог был достаточно «абстрактен», так что запрещалось даже его изображать и произносить его имя. Бог без имени и без видимого образа давно уже почитался и у греков в народном культе «элевсинских мистерий»; к нему приходили, с другой стороны, философы и учившиеся у них аристократы. Павел из Тарса приспособил христианскую религию к обычаям индоевропейских народов и тем самым стал «апостолом язычников». Несомненно, к идее общечеловеческой религии подошёл уже сам Христос, как это видно из эпизода с хананеянкой. Но Павел, объявивший, что для бога нет «ни эллина, ни иудея», выразил величайший переворот в человеческой психике: возникло понятие человека вообще, с общими для всех людей правами и обязанностями — сначала перед богом, а потом перед людьми и самим собой. 46 Из христианской этики возникла этика гуманизма.
В некотором смысле еврейская религия была самой развитой: в ней уже было установлено строгое единобожие, а бог был достаточно «абстрактен», так что запрещалось даже его изображать и произносить его имя. Бог без имени и без видимого образа давно уже почитался и у греков в народном культе «элевсинских мистерий»; к нему приходили, с другой стороны, философы и учившиеся у них аристократы. Павел из Тарса приспособил христианскую религию к обычаям индоевропейских народов и тем самым стал «апостолом язычников». Несомненно, к идее общечеловеческой религии подошёл уже сам Христос, как это видно из эпизода с хананеянкой. Но Павел, объявивший, что для бога нет «ни эллина, ни иудея», выразил величайший переворот в человеческой психике: возникло понятие человека вообще, с общими для всех людей правами и обязанностями — сначала перед богом, а потом перед людьми и самим собой. 46 Из христианской этики возникла этика гуманизма. Да и сам Христос всегда ссылался на писание, хотя был, по-видимому, неграмотен: он был верующий еврей, пытавшийся реформировать еврейскую религию. Эта религия вначале была религией небольшого племени кочевников-скотоводов, ещё не успевших осесть на землю и выстроить города; племя это было «отсталым» по сравнению с семитами Аккада и Вавилона, уже создавшими деспотические государства. Но именно эта «отсталость», подобно «отсталости» кочевых племён, населивших Грецию и Италию, сопровождалась большей личной свободой: вспомните, что говорил о царях пророк Самуил. Не случайно ссылались на это пророчество отцы-основатели американской республики, когда они решили покончить с королевской властью. Ещё и в наши дни тот же дух независимости сохранили бедуины — кочующие арабы пустыни. Но у евреев — небольшого и политически слабого племени — этот дух соединялся с особой способностью к религиозному творчеству и пристальным вниманием к этическим вопросам. Еврейская религия, впоследствии застывшая в церковной традиции, в древности испытала удивительную эволюцию.
Да и сам Христос всегда ссылался на писание, хотя был, по-видимому, неграмотен: он был верующий еврей, пытавшийся реформировать еврейскую религию. Эта религия вначале была религией небольшого племени кочевников-скотоводов, ещё не успевших осесть на землю и выстроить города; племя это было «отсталым» по сравнению с семитами Аккада и Вавилона, уже создавшими деспотические государства. Но именно эта «отсталость», подобно «отсталости» кочевых племён, населивших Грецию и Италию, сопровождалась большей личной свободой: вспомните, что говорил о царях пророк Самуил. Не случайно ссылались на это пророчество отцы-основатели американской республики, когда они решили покончить с королевской властью. Ещё и в наши дни тот же дух независимости сохранили бедуины — кочующие арабы пустыни. Но у евреев — небольшого и политически слабого племени — этот дух соединялся с особой способностью к религиозному творчеству и пристальным вниманием к этическим вопросам. Еврейская религия, впоследствии застывшая в церковной традиции, в древности испытала удивительную эволюцию.
.jpg) Эта идея возникала и раньше у мыслителей Индии, но никогда не усваивалась целым племенем, то есть не становилась народной религией.
Эта идея возникала и раньше у мыслителей Индии, но никогда не усваивалась целым племенем, то есть не становилась народной религией. Первым из них был Исаия, а последним — Иисус Христос. Хотя мы не можем очистить библейские тексты от жреческих искажений, величие пророков проявляется в поразительных прозрениях, часто производящих впечатление анахронизмов. Исаия был, по-видимому, не меньшим пророком, чем Иисус, но слишком рано родился. Если бы не было пророков, не было бы и Христа.
Первым из них был Исаия, а последним — Иисус Христос. Хотя мы не можем очистить библейские тексты от жреческих искажений, величие пророков проявляется в поразительных прозрениях, часто производящих впечатление анахронизмов. Исаия был, по-видимому, не меньшим пророком, чем Иисус, но слишком рано родился. Если бы не было пророков, не было бы и Христа. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш». И в главе 24: «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца; ибо я Господь ваш». Это повеление следует почти сразу же за ужасным правилом: «око за око, зуб за зуб»: вспомните, что Библии три тысячи лет.
Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш». И в главе 24: «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца; ибо я Господь ваш». Это повеление следует почти сразу же за ужасным правилом: «око за око, зуб за зуб»: вспомните, что Библии три тысячи лет.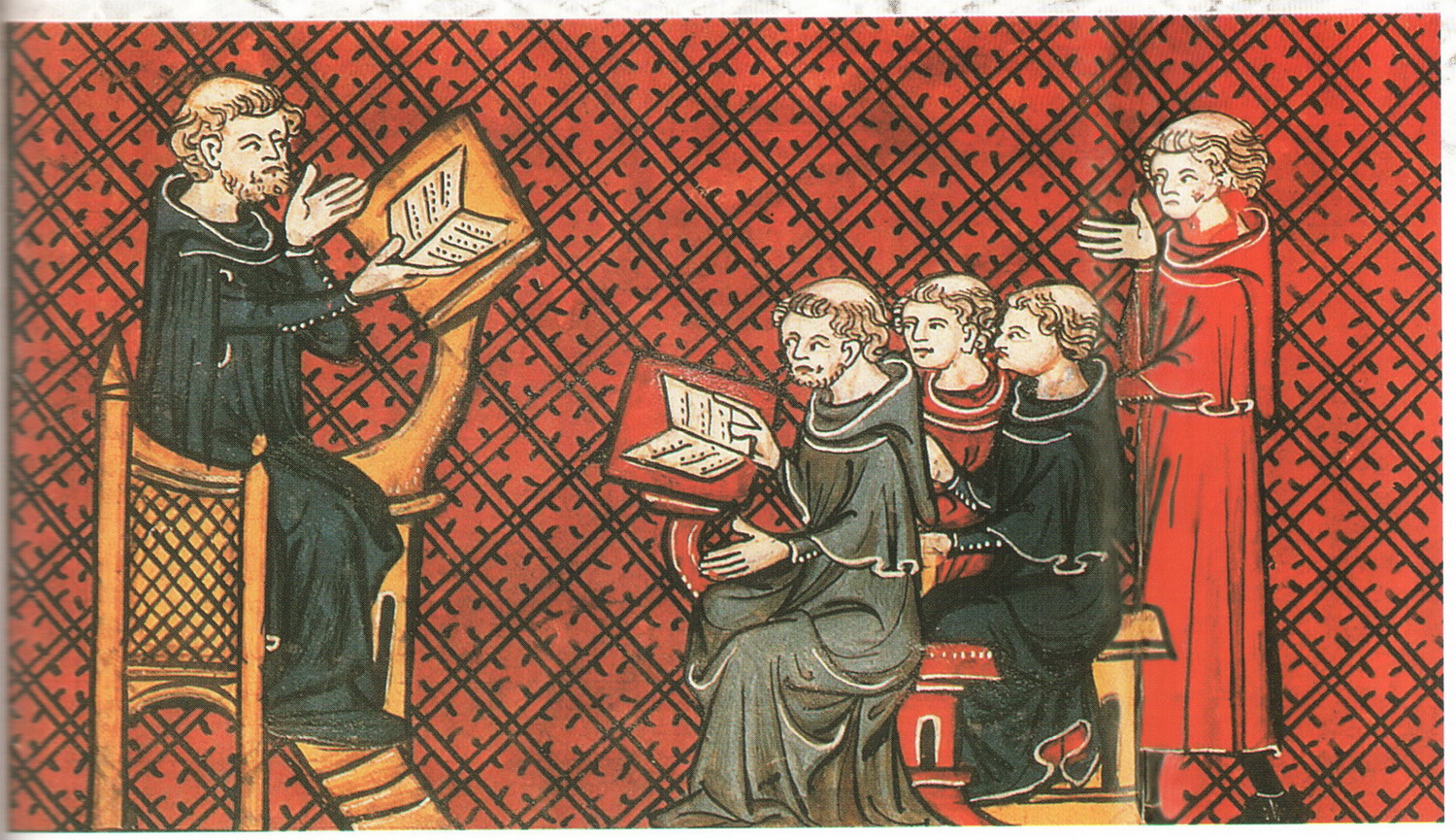
 И будет, прежде нежели они воззовут — Я отвечу, они ещё будут говорить, и Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею; они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (гл. 65).
И будет, прежде нежели они воззовут — Я отвечу, они ещё будут говорить, и Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею; они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (гл. 65). (Гл. 58).
(Гл. 58).
 Из церковных писателей даже Павел никогда не видел Христа. Евангелия были составлены по христианскому фольклору во второй половине I века. Остатки этого фольклора, на греческом языке, свидетельствуют о большом разнообразии бывших в обращении историй из жизни Иисуса и его изречений. Окончательный текст четырёх сохранённых Евангелий был отредактирован в IV веке, а множество других Евангелий уничтожалось. Канонические Евангелия представляют церковную фальсификацию преданий о жизни и учении Христа.
Из церковных писателей даже Павел никогда не видел Христа. Евангелия были составлены по христианскому фольклору во второй половине I века. Остатки этого фольклора, на греческом языке, свидетельствуют о большом разнообразии бывших в обращении историй из жизни Иисуса и его изречений. Окончательный текст четырёх сохранённых Евангелий был отредактирован в IV веке, а множество других Евангелий уничтожалось. Канонические Евангелия представляют церковную фальсификацию преданий о жизни и учении Христа.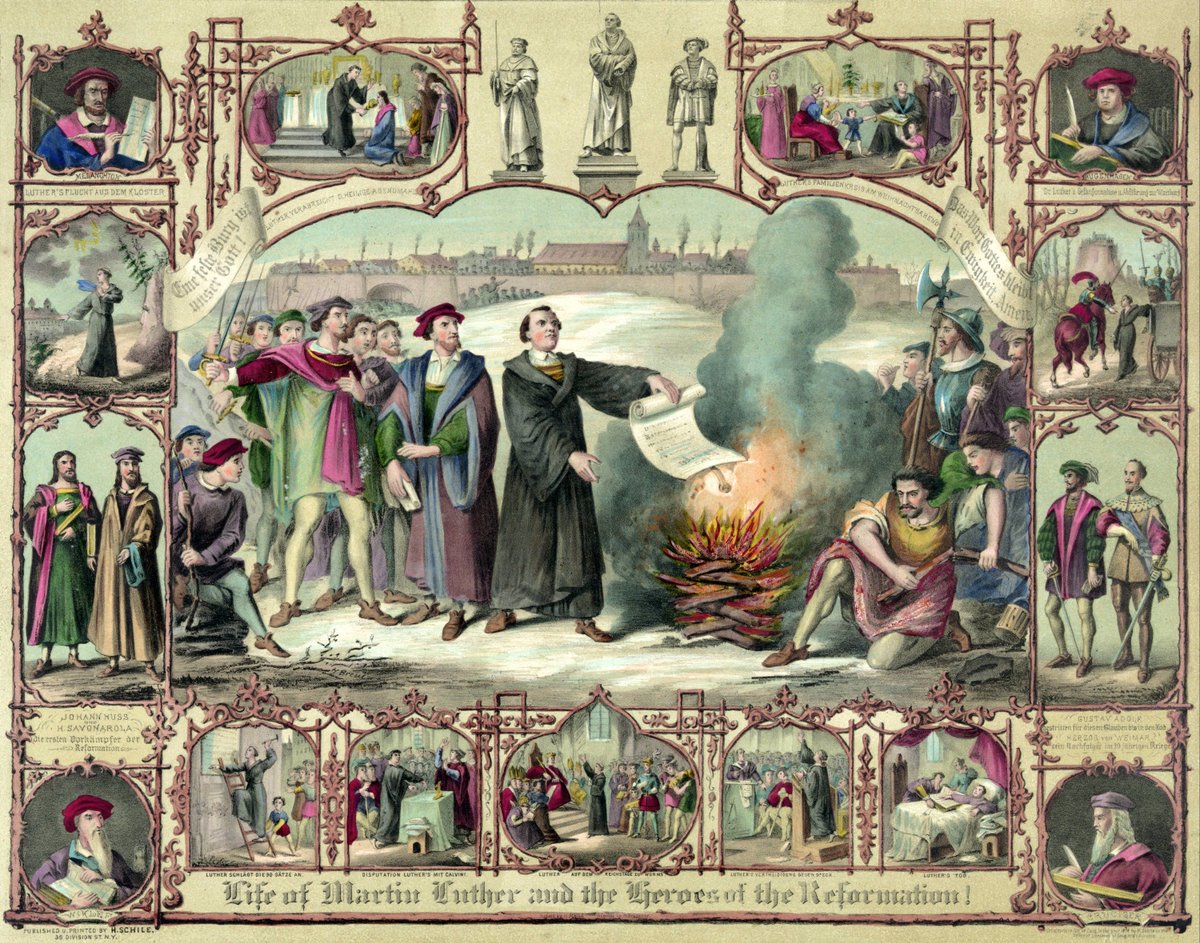

 Начало проповеди было, по всей вероятности, фальсифицировано церковниками, несомненно желавшими сделать свою религию приемлемой для богатых и знатных. Они превратили «бедных» в «нищих духом», то есть необразованных или неумных, извратив смысл всего поучения. 48
Начало проповеди было, по всей вероятности, фальсифицировано церковниками, несомненно желавшими сделать свою религию приемлемой для богатых и знатных. Они превратили «бедных» в «нищих духом», то есть необразованных или неумных, извратив смысл всего поучения. 48 Горе вам, когда хвалят вас все люди: точно так же хвалили лжепророков отцы этих людей».
Горе вам, когда хвалят вас все люди: точно так же хвалили лжепророков отцы этих людей». Теряется всё намеренное построение антитез: ведь в каждой из половин, в свою очередь, есть две части, первая из которых говорит о социальном положении учеников Иисуса и их противников, вторая же — об их духовной установке по отношению к его учению.
Теряется всё намеренное построение антитез: ведь в каждой из половин, в свою очередь, есть две части, первая из которых говорит о социальном положении учеников Иисуса и их противников, вторая же — об их духовной установке по отношению к его учению.
 Апокрифическое «евангелие от Филиппа» называет Марию Магдалину женой Иисуса, а многие из первых христиан считали «братьев» и «сестер» Иисуса, упоминаемых и в канонических Евангелиях, детьми Марии от Иосифа. Ясно, что церкви пришлось основательно потрудиться, цензуруя и «гармонизируя» евангельскую литературу. Чрезмерное почтение к букве канонических текстов было бы наивностью.
Апокрифическое «евангелие от Филиппа» называет Марию Магдалину женой Иисуса, а многие из первых христиан считали «братьев» и «сестер» Иисуса, упоминаемых и в канонических Евангелиях, детьми Марии от Иосифа. Ясно, что церкви пришлось основательно потрудиться, цензуруя и «гармонизируя» евангельскую литературу. Чрезмерное почтение к букве канонических текстов было бы наивностью. И даже после всей этой работы трудно истолковать Христа как кроткого проповедника «в белом венчике из роз», во главе двенадцати смиренных. Во многих местах из-за этого образа вырисовывается другой Христос, распятый как мятежник. Конечно, эти черты Иисуса были особенно тщательно вымараны из Евангелий. Трудно, например, воспринять как урок смирения, следующий призыв к ученикам (Марк, гл. 10):
И даже после всей этой работы трудно истолковать Христа как кроткого проповедника «в белом венчике из роз», во главе двенадцати смиренных. Во многих местах из-за этого образа вырисовывается другой Христос, распятый как мятежник. Конечно, эти черты Иисуса были особенно тщательно вымараны из Евангелий. Трудно, например, воспринять как урок смирения, следующий призыв к ученикам (Марк, гл. 10):
 В стране, год за годом видевшей, как изменяется её прошлое, это нетрудно понять.
В стране, год за годом видевшей, как изменяется её прошлое, это нетрудно понять. В недрах этих религий или вне их созревали более чувствительные к человеческим нуждам мистические верования. Мы мало знаем о народных культах поздних египтян и сирийцев, об элевсинских мистериях Аттики, но в них, несомненно, были элементы, которых недоставало официальным религиям Иудеи, Греции и Рима. В особенности это относится к представлениям о потустороннем мире, чуждым классическим традициям этих религий. Учение о загробном вознаграждении праведников и наказании грешников было важной частью религии египтян, весьма отвлекавшей их от дел этого мира к заботам о будущем мире — о чём свидетельствуют пирамиды и найденные в них заклинания. У евреев, греков и римлян вначале, по-видимому, не было таких доктрин, и вообще о «бессмертии души» были очень смутные представления, не влиявшие на их повседневное поведение. Но во время Христа «эсхатологические» учения о загробном воздаянии широко распространились по всей империи, и сами Евангелия свидетельствуют, что ими были проникнуты также евреи, хотя ни Ветхий Завет, ни «олимпийская» религия греков и римлян ничего о них не знают, а обращают внимание лишь на «земную» жизнь человека в его религиозной общине.
В недрах этих религий или вне их созревали более чувствительные к человеческим нуждам мистические верования. Мы мало знаем о народных культах поздних египтян и сирийцев, об элевсинских мистериях Аттики, но в них, несомненно, были элементы, которых недоставало официальным религиям Иудеи, Греции и Рима. В особенности это относится к представлениям о потустороннем мире, чуждым классическим традициям этих религий. Учение о загробном вознаграждении праведников и наказании грешников было важной частью религии египтян, весьма отвлекавшей их от дел этого мира к заботам о будущем мире — о чём свидетельствуют пирамиды и найденные в них заклинания. У евреев, греков и римлян вначале, по-видимому, не было таких доктрин, и вообще о «бессмертии души» были очень смутные представления, не влиявшие на их повседневное поведение. Но во время Христа «эсхатологические» учения о загробном воздаянии широко распространились по всей империи, и сами Евангелия свидетельствуют, что ими были проникнуты также евреи, хотя ни Ветхий Завет, ни «олимпийская» религия греков и римлян ничего о них не знают, а обращают внимание лишь на «земную» жизнь человека в его религиозной общине. К этому времени загробное вознаграждение и наказание стало общим местом всех народных верований. Еврейский бог мстил своим ослушникам в их земной жизни, но Христос угрожает грешникам геенной огненной на том свете, и его слушатели боятся этих угроз. Воображение людей создаёт ад и рай, и не сможет освободиться от этих призраков две тысячи лет. Ад гораздо реальнее рая, поскольку у людей больше материала для его представления, а картины рая бледны и безжизненны. Страх был сильнее надежды.
К этому времени загробное вознаграждение и наказание стало общим местом всех народных верований. Еврейский бог мстил своим ослушникам в их земной жизни, но Христос угрожает грешникам геенной огненной на том свете, и его слушатели боятся этих угроз. Воображение людей создаёт ад и рай, и не сможет освободиться от этих призраков две тысячи лет. Ад гораздо реальнее рая, поскольку у людей больше материала для его представления, а картины рая бледны и безжизненны. Страх был сильнее надежды.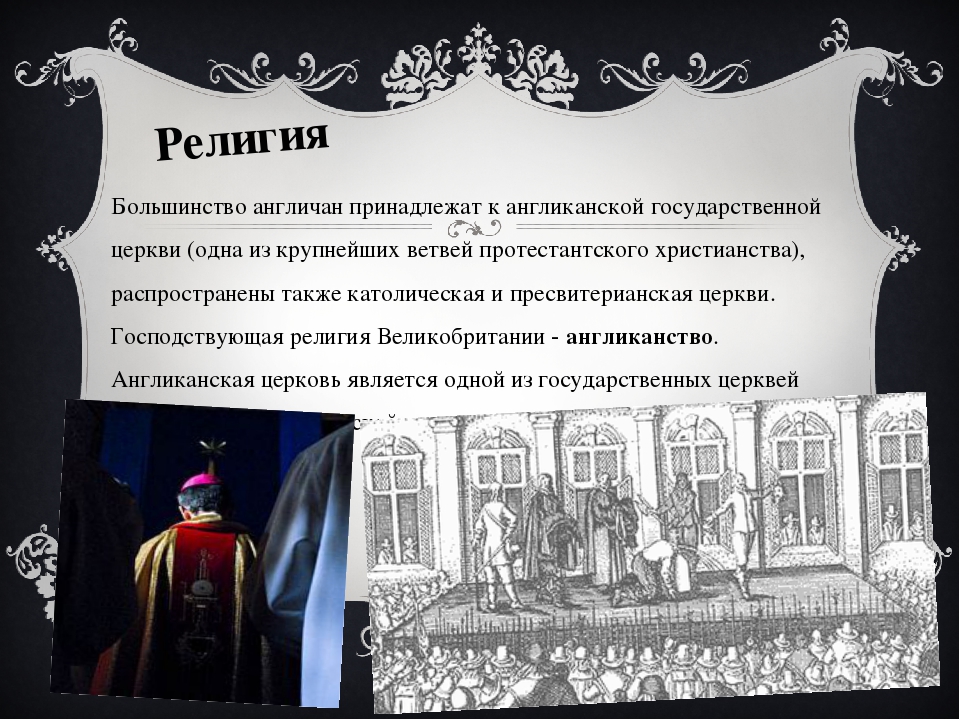 9). Поэтому первые христиане были не столько заняты делами этого мира, сколько ожиданием грядущего. Но Второе Пришествие задерживалось, и христиане возложили свои надежды на земной вариант царства справедливости — Тысячелетнее царство; это представление, именуемое «хилиазмом», создало немало затруднений для богословов, пытавшихся соединить его с обещанием загробного блаженства. Восточная легенда о тысячелетнем царстве пришла, вероятно, из Персии, где она была известна задолго до Христа. По её христианской версии, описанной в Откровении Иоанна, праведники будут жить в этом царстве тысячу лет под властью самого Христа, а затем проследуют в рай. Несомненно, Тысячелетнее Царство — продукт народной фантазии. Как его представляли себе ранние христиане, рассказывает Папий, епископ Гиерапольский, живший в конце II века в Малой Азии.
9). Поэтому первые христиане были не столько заняты делами этого мира, сколько ожиданием грядущего. Но Второе Пришествие задерживалось, и христиане возложили свои надежды на земной вариант царства справедливости — Тысячелетнее царство; это представление, именуемое «хилиазмом», создало немало затруднений для богословов, пытавшихся соединить его с обещанием загробного блаженства. Восточная легенда о тысячелетнем царстве пришла, вероятно, из Персии, где она была известна задолго до Христа. По её христианской версии, описанной в Откровении Иоанна, праведники будут жить в этом царстве тысячу лет под властью самого Христа, а затем проследуют в рай. Несомненно, Тысячелетнее Царство — продукт народной фантазии. Как его представляли себе ранние христиане, рассказывает Папий, епископ Гиерапольский, живший в конце II века в Малой Азии.

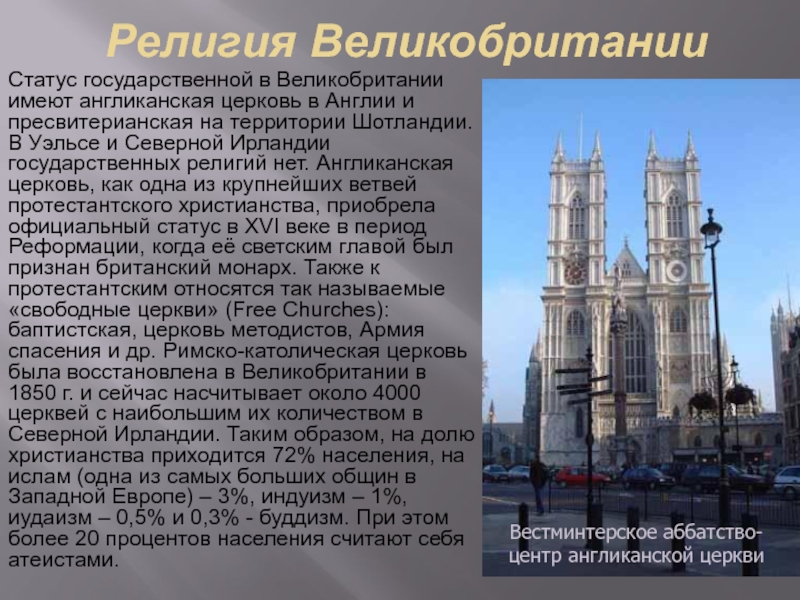 И если нет у них поповского благословения, брак их будет не менее законным — да здравствуют жених, невеста и их будущие дети!
И если нет у них поповского благословения, брак их будет не менее законным — да здравствуют жених, невеста и их будущие дети! Это общее настроение поздней греческой философии имело два аспекта: было позитивное, в сущности более поэтическое, чем догматическое представление о едином божестве, попросту принятое христианством, как только оно обзавелось системой понятий; и была негативная сторона, для которой безжизненная схема уже ненужного бога превратилась в словесную игрушку почти лишённых религии атеистов».
Это общее настроение поздней греческой философии имело два аспекта: было позитивное, в сущности более поэтическое, чем догматическое представление о едином божестве, попросту принятое христианством, как только оно обзавелось системой понятий; и была негативная сторона, для которой безжизненная схема уже ненужного бога превратилась в словесную игрушку почти лишённых религии атеистов». Почти все образованные люди того времени, в том числе государственные деятели, были стоики. Эпиктет был раб, но Сенека был вельможа, а Марк Аврелий — редкий случай в истории — был император-философ. Ни один из них не был христианином. Император Марк не видел в христианах родственных ему мыслителей и позволял их преследовать, когда их обвиняли в нарушении законов, а Плиний младший, тоже стоик, ещё раньше сомневался, что делать с этим новым суеверием. Вряд ли стоики подозревали, как близко они подошли к христианству, и хотя Сенека ни разу не упомянул о Христе, христиане впоследствии прямо считали его «своим» и сочинили его поддельную переписку с апостолом Павлом.
Почти все образованные люди того времени, в том числе государственные деятели, были стоики. Эпиктет был раб, но Сенека был вельможа, а Марк Аврелий — редкий случай в истории — был император-философ. Ни один из них не был христианином. Император Марк не видел в христианах родственных ему мыслителей и позволял их преследовать, когда их обвиняли в нарушении законов, а Плиний младший, тоже стоик, ещё раньше сомневался, что делать с этим новым суеверием. Вряд ли стоики подозревали, как близко они подошли к христианству, и хотя Сенека ни разу не упомянул о Христе, христиане впоследствии прямо считали его «своим» и сочинили его поддельную переписку с апостолом Павлом. Можно заметить, что платонизм, с его идеей абстрактного божества, источника всех других идей, легко мог быть приспособлен к единому богу христиан. Была и другая сторона дела: у Платона отцы церкви заимствовали его пристрастие к коллективизму, созвучному христианской «соборности». Платону принадлежит пародия на социализм, возникшая намного раньше самого социализма. Это очень характерно для утопий, поскольку люди часто ставят себе преждевременные цели и придумывают для них нелепые средства; когда же цель приближается, эти средства производят комическое впечатление. Платон хотел устроить «здоровое общество» (как сказал бы Фромм, the sane society) и придумал для этого «казарменный коммунизм». Он заимствовал у спартанцев простоту нравов и послушание руководству, но хотел поставить во руководителю государства «философов» с охранительными функциями. Богословы-платоники усвоили эту идею, приспособив её к потребностям церкви: «пастыри» должны были заменить «философов» в роли хранителей традиции.
Можно заметить, что платонизм, с его идеей абстрактного божества, источника всех других идей, легко мог быть приспособлен к единому богу христиан. Была и другая сторона дела: у Платона отцы церкви заимствовали его пристрастие к коллективизму, созвучному христианской «соборности». Платону принадлежит пародия на социализм, возникшая намного раньше самого социализма. Это очень характерно для утопий, поскольку люди часто ставят себе преждевременные цели и придумывают для них нелепые средства; когда же цель приближается, эти средства производят комическое впечатление. Платон хотел устроить «здоровое общество» (как сказал бы Фромм, the sane society) и придумал для этого «казарменный коммунизм». Он заимствовал у спартанцев простоту нравов и послушание руководству, но хотел поставить во руководителю государства «философов» с охранительными функциями. Богословы-платоники усвоили эту идею, приспособив её к потребностям церкви: «пастыри» должны были заменить «философов» в роли хранителей традиции.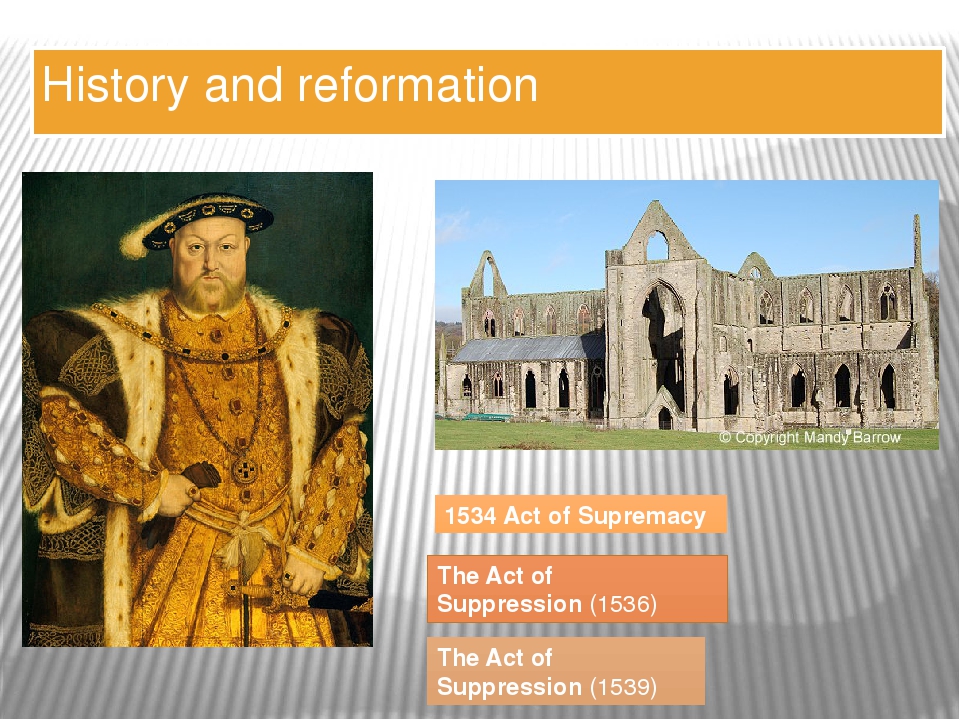 Этим пристрастием к Платону и объясняется тот удивительный факт, что византийские монахи переписывали все мерзости платонова «Государства»: они думали, что Платон был каким-то образом «свой». Консервативная установка Платона несомненно была прообразом иерархической системы, сложившейся под названием «церкви» и не имевшей аналогов во всей предыдущей истории. Конечно, новые структуры возникают в истории путём их «естественного» развития, но при этом форма и даже функции этих структур могут зависеть от теоретических доктрин. В некотором смысле изобретателем христианской церкви был Платон. 50
Этим пристрастием к Платону и объясняется тот удивительный факт, что византийские монахи переписывали все мерзости платонова «Государства»: они думали, что Платон был каким-то образом «свой». Консервативная установка Платона несомненно была прообразом иерархической системы, сложившейся под названием «церкви» и не имевшей аналогов во всей предыдущей истории. Конечно, новые структуры возникают в истории путём их «естественного» развития, но при этом форма и даже функции этих структур могут зависеть от теоретических доктрин. В некотором смысле изобретателем христианской церкви был Платон. 50 Конечно, христиане несколько отступили от еврейского монотеизма, прибавив к своему культу бога-сына, богоматерь, а потом ещё множество святых. Но при этом верующие должны были знать, что бог всё-таки един, хотя и в трёх лицах. Единый бог должен был иметь единообразный культ, не зависящий от местных традиций и вкусов; этим христианская церковь отличается от египетской, самой могущественной религиозной организации древности. Прообразом христианского культа был, конечно, еврейский, где был единственный храм, а жрецов возглавлял первосвящённик. Христиане заимствовали у евреев их священную книгу — библию, искусственно связав её с «Новым Заветом». Наконец, они взяли у евреев и развили дальше совершенно чуждое другим народам учение о боге — «богословие», претендующее на знание свойств и намерений божества.
Конечно, христиане несколько отступили от еврейского монотеизма, прибавив к своему культу бога-сына, богоматерь, а потом ещё множество святых. Но при этом верующие должны были знать, что бог всё-таки един, хотя и в трёх лицах. Единый бог должен был иметь единообразный культ, не зависящий от местных традиций и вкусов; этим христианская церковь отличается от египетской, самой могущественной религиозной организации древности. Прообразом христианского культа был, конечно, еврейский, где был единственный храм, а жрецов возглавлял первосвящённик. Христиане заимствовали у евреев их священную книгу — библию, искусственно связав её с «Новым Заветом». Наконец, они взяли у евреев и развили дальше совершенно чуждое другим народам учение о боге — «богословие», претендующее на знание свойств и намерений божества. Мышление, оторванное от действительности, оперировало пустыми абстракциями — утвердившимися в философской традиции ключевыми словами. Эта традиция, исходившая из «идей» Платона, обогатилась христианской лексикой: можно было рассуждать не только о мудрости и красоте, о добре и высшем благе, но и о боге, с его тройственной природой, о бессмертии души, о свободе воли и о множестве столь же важных, но неизбежно спорных предметов. Эти споры могли быть эмоционально окрашены, поскольку обсуждаемые предметы имели всё же человеческое происхождение, но эмоции разных мыслителей были различны и подсказывали им разные рассуждения. В позднем Средневековье учителем схоластов оказался полученный через арабов Аристотель: они уверовали, что все знание может быть получено с помощью силлогизмов, применяемых к ключевым словам философии. Рассуждения о словах поработили человеческое мышление на тысячу лет. Это страшное словесное рабство можно уподобить знаменитой метафоре Платона, где люди видят только тени предметов на стене пещеры, но не могут повернуть головы к свету, чтобы увидеть стоящую за ними действительность.
Мышление, оторванное от действительности, оперировало пустыми абстракциями — утвердившимися в философской традиции ключевыми словами. Эта традиция, исходившая из «идей» Платона, обогатилась христианской лексикой: можно было рассуждать не только о мудрости и красоте, о добре и высшем благе, но и о боге, с его тройственной природой, о бессмертии души, о свободе воли и о множестве столь же важных, но неизбежно спорных предметов. Эти споры могли быть эмоционально окрашены, поскольку обсуждаемые предметы имели всё же человеческое происхождение, но эмоции разных мыслителей были различны и подсказывали им разные рассуждения. В позднем Средневековье учителем схоластов оказался полученный через арабов Аристотель: они уверовали, что все знание может быть получено с помощью силлогизмов, применяемых к ключевым словам философии. Рассуждения о словах поработили человеческое мышление на тысячу лет. Это страшное словесное рабство можно уподобить знаменитой метафоре Платона, где люди видят только тени предметов на стене пещеры, но не могут повернуть головы к свету, чтобы увидеть стоящую за ними действительность. Средние века были сном человеческого разума, и нужно специальное изучение этого явления, чтобы в него поверить.
Средние века были сном человеческого разума, и нужно специальное изучение этого явления, чтобы в него поверить.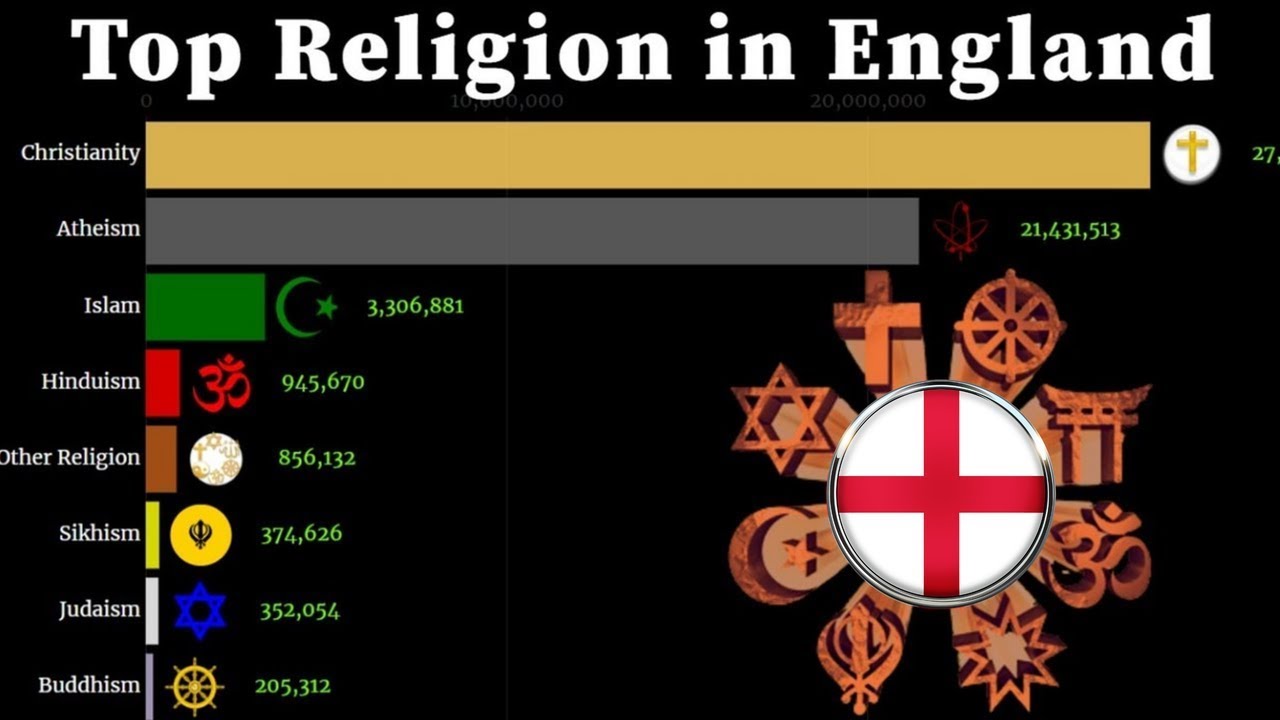 Чтение библии мирянами не поощрялось, а толкование разрешено было только докторам богословия. Один из пап дошёл до того, что запрещал священникам изучение грамматики. Но самым страшным продуктом церковного обскурантизма было создание «религии дьявола».
Чтение библии мирянами не поощрялось, а толкование разрешено было только докторам богословия. Один из пап дошёл до того, что запрещал священникам изучение грамматики. Но самым страшным продуктом церковного обскурантизма было создание «религии дьявола». Во главе всех злых духов был поставлен Сатана, почти равносильный христианскому богу, и даже внушавший средневековому человеку больший страх: о боге вспоминали в торжественных случаях, а дьявол всегда «ходил кругом, выискивая, кого бы пожрать». Злые духи — демоны — вербовали себе сообщников среди смертных: колдуны и ведьмы, всегда беспокоившие народное воображение, стали предметом богословского исследования и привлекались к суду по церковным законам. Конечно, все попытки самостоятельного мышления рассматривались как ереси, а все ереси относились за счёт дьявольского соблазна.
Во главе всех злых духов был поставлен Сатана, почти равносильный христианскому богу, и даже внушавший средневековому человеку больший страх: о боге вспоминали в торжественных случаях, а дьявол всегда «ходил кругом, выискивая, кого бы пожрать». Злые духи — демоны — вербовали себе сообщников среди смертных: колдуны и ведьмы, всегда беспокоившие народное воображение, стали предметом богословского исследования и привлекались к суду по церковным законам. Конечно, все попытки самостоятельного мышления рассматривались как ереси, а все ереси относились за счёт дьявольского соблазна. «Здоровая», то есть не подточенная сомнением христианская религия была манихейской религией.
«Здоровая», то есть не подточенная сомнением христианская религия была манихейской религией. Церковь не может отрицать чудеса, описанные в Библии, и признает чудотворные способности апостолов и святых первых веков христианства; но в более близкие к нам времена даже святые, по-видимому, утратили эти способности, и претензии на чудо не вызывают у церковного руководства никакого энтузиазма. В чём же тут дело? Конечно, и в Средние века законы природы не нарушались, то есть не было никаких чудес, но люди воспринимали как чудо любое необычное стечение обстоятельств, любую неожиданность. Человеку свойственна глубокая потребность понимать и объяснять всё происходящее: это функция его мозга, важная для сохранения вида и приводимая в действие даже в случаях, не имеющих практического значения. Для объяснения всевозможных явлений человек строит «теории», то есть правдоподобные гипотезы, соответствующие его знаниям и логическим способностям. Вплоть до Нового времени эти «теории» были антропоморфны, то есть в качестве объяснительной модели использовали действие некоторой человекообразной силы; это естественно, поскольку самой понятной человеку силой была его ственная сила, зависящая от его сознательной воли.
Церковь не может отрицать чудеса, описанные в Библии, и признает чудотворные способности апостолов и святых первых веков христианства; но в более близкие к нам времена даже святые, по-видимому, утратили эти способности, и претензии на чудо не вызывают у церковного руководства никакого энтузиазма. В чём же тут дело? Конечно, и в Средние века законы природы не нарушались, то есть не было никаких чудес, но люди воспринимали как чудо любое необычное стечение обстоятельств, любую неожиданность. Человеку свойственна глубокая потребность понимать и объяснять всё происходящее: это функция его мозга, важная для сохранения вида и приводимая в действие даже в случаях, не имеющих практического значения. Для объяснения всевозможных явлений человек строит «теории», то есть правдоподобные гипотезы, соответствующие его знаниям и логическим способностям. Вплоть до Нового времени эти «теории» были антропоморфны, то есть в качестве объяснительной модели использовали действие некоторой человекообразной силы; это естественно, поскольку самой понятной человеку силой была его ственная сила, зависящая от его сознательной воли. Отсюда и возникла «примитивная наука», то есть религия. Конечно, «теории», предлагаемые религией, так же как теории современной науки, сравнивались с опытом. Но человек был крайне беспомощен в своём мышлении и не умел осмыслить наблюдаемые факты. У него не развилось ещё причинное мышление — привычка выделять повторяющиеся последовательности явлений и систематически проверять необычные утверждения. Средневековый человек сравнивал с опытом свои «теории», пользуясь своими мыслительными способностями, и находил подтверждение этих «теорий»: он охотно принимал желаемое за действительное. Он верил и тому, что говорили сведущие и почтенные люди, даже если сам не был свидетелем чуда; точно так же мы верим научным теориям, принимая их готовые выводы от специалистов-учёных.
Отсюда и возникла «примитивная наука», то есть религия. Конечно, «теории», предлагаемые религией, так же как теории современной науки, сравнивались с опытом. Но человек был крайне беспомощен в своём мышлении и не умел осмыслить наблюдаемые факты. У него не развилось ещё причинное мышление — привычка выделять повторяющиеся последовательности явлений и систематически проверять необычные утверждения. Средневековый человек сравнивал с опытом свои «теории», пользуясь своими мыслительными способностями, и находил подтверждение этих «теорий»: он охотно принимал желаемое за действительное. Он верил и тому, что говорили сведущие и почтенные люди, даже если сам не был свидетелем чуда; точно так же мы верим научным теориям, принимая их готовые выводы от специалистов-учёных. И всё же, эта культура, глубоко отличная от античной греко-римской культуры, несла в себе потенциал будущего развития, породивший после «промышленной революции» современную «Западную культуру». Средневековая культура не была простым результатом завоевания Римской империи германскими племенами. Ещё до этого к античной культуре индоевропейских народов было «привито» 51, посредством христианской религии, культурное влияние семитического происхождения, содержавшее в себе, по-видимому, новые психические элементы. Эти элементы, вероятно, усилили «внутреннюю», интроспективную ориентацию человека, вначале направленную на моральные предметы — ощущение греха и потребность в искуплении — но потом содействовавшую развитию абстрактного мышления. Мышление богословов-схоластов, беспредметное по-своему содержанию, в формальном отношении подготовило не только философию Декарта, но и теорию множеств.
И всё же, эта культура, глубоко отличная от античной греко-римской культуры, несла в себе потенциал будущего развития, породивший после «промышленной революции» современную «Западную культуру». Средневековая культура не была простым результатом завоевания Римской империи германскими племенами. Ещё до этого к античной культуре индоевропейских народов было «привито» 51, посредством христианской религии, культурное влияние семитического происхождения, содержавшее в себе, по-видимому, новые психические элементы. Эти элементы, вероятно, усилили «внутреннюю», интроспективную ориентацию человека, вначале направленную на моральные предметы — ощущение греха и потребность в искуплении — но потом содействовавшую развитию абстрактного мышления. Мышление богословов-схоластов, беспредметное по-своему содержанию, в формальном отношении подготовило не только философию Декарта, но и теорию множеств.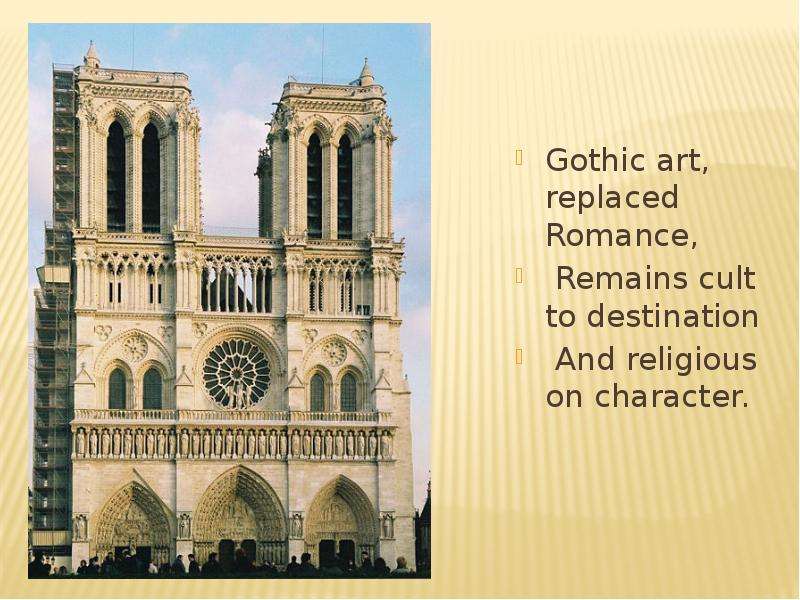 «Классическая» древность очень мало беспокоилась о загробной жизни. У греков, римлян, а также у евреев в их ветхозаветное время все внимание было устремлено к «земной» жизни человека. Как видно из одного места «Одиссеи», греки представляли себе загробный мир как мрачное царство бога Аида, где тени умерших ведут призрачное существование. Важное значение придавали загробной жизни египтяне и, несомненно, другие ближневосточные народы. Ко времени Христа, как мы видели, вера в «бессмертие души» была уже широко распространена в Древнем мире, а христианская религия детально разработала эту веру и привила её европейским народам настолько прочно, что для средневекового человека ад был почти так же реален, как земная жизнь, и страх загробного воздаяния был серьёзным мотивом человеческого поведения. Этой «потусторонней» установки не было у «язычников», и её нет у нынешнего, по существу арелигиозного человека. Поэтому нам очень трудно представить себе психическую жизнь Средневековья. Личное бессмертие принималось тогда всерьёз: во всей Европе не было неверующих в христианскую мифологию.
«Классическая» древность очень мало беспокоилась о загробной жизни. У греков, римлян, а также у евреев в их ветхозаветное время все внимание было устремлено к «земной» жизни человека. Как видно из одного места «Одиссеи», греки представляли себе загробный мир как мрачное царство бога Аида, где тени умерших ведут призрачное существование. Важное значение придавали загробной жизни египтяне и, несомненно, другие ближневосточные народы. Ко времени Христа, как мы видели, вера в «бессмертие души» была уже широко распространена в Древнем мире, а христианская религия детально разработала эту веру и привила её европейским народам настолько прочно, что для средневекового человека ад был почти так же реален, как земная жизнь, и страх загробного воздаяния был серьёзным мотивом человеческого поведения. Этой «потусторонней» установки не было у «язычников», и её нет у нынешнего, по существу арелигиозного человека. Поэтому нам очень трудно представить себе психическую жизнь Средневековья. Личное бессмертие принималось тогда всерьёз: во всей Европе не было неверующих в христианскую мифологию. Это верование настолько меняет поведение человека, что можно было бы говорить о «видовом» признаке: тогда был, в метафорическом смысле, «человек бессмертный». Ностальгия по этому бессмертию лежит в основе патологической любви к Средневековью некоторых современных философов. Эти люди не смогли бы прожить в Средневековье и одного дня.
Это верование настолько меняет поведение человека, что можно было бы говорить о «видовом» признаке: тогда был, в метафорическом смысле, «человек бессмертный». Ностальгия по этому бессмертию лежит в основе патологической любви к Средневековью некоторых современных философов. Эти люди не смогли бы прожить в Средневековье и одного дня. Даже сознательные фальсификации, к которым они прибегали, не вызывали у них ощущения вины, потому что они не отделяли интересы церкви от своего религиозного долга. По сравнению с нашими нынешними политиками они были невинны, потому что сами верили в то, что говорили. Чтo здесь в самом деле нуждается в объяснении — это человеческий тип, способный производить такую умственную продукцию и принимать её всерьёз. Мы не можем подойти к нему с позиций психологии, поскольку историческая психология не вышла ещё из стадии благих намерений. Но мы можем присмотреться, в какой культурной традиции воспитывались эти люди.
Даже сознательные фальсификации, к которым они прибегали, не вызывали у них ощущения вины, потому что они не отделяли интересы церкви от своего религиозного долга. По сравнению с нашими нынешними политиками они были невинны, потому что сами верили в то, что говорили. Чтo здесь в самом деле нуждается в объяснении — это человеческий тип, способный производить такую умственную продукцию и принимать её всерьёз. Мы не можем подойти к нему с позиций психологии, поскольку историческая психология не вышла ещё из стадии благих намерений. Но мы можем присмотреться, в какой культурной традиции воспитывались эти люди. У греков оригинальное развитие науки началось очень рано, и вовсе не в Афинах, а в Ионии — в греческих городах Малой Азии. Первый учёный, имя которого до нас дошло, был иониец — Фалес из Милета; отец медицины Гиппократ был из Коса, тоже в Малой Азии; Демокрит из Абдер, Архимед из Сиракуз, Аполлоний из Перги — все они жили на периферии греческого мира, центром которого стали Афины. Первые «философы», строившие системы мироздания, — Анаксимандр, Пифагор, Зенон — тоже не были афиняне. Ирония истории была в том, что век Перикла был веком расцвета искусства и политической жизни, но в то же время веком упадка объективного мышления. Уровень, достигнутый в то время греческим мышлением, можно видеть в дошедших до нас работах математика Евклида, историка Фукидида, врача Гиппократа — строго логичных, объективных, свободных от фантастических построений.
У греков оригинальное развитие науки началось очень рано, и вовсе не в Афинах, а в Ионии — в греческих городах Малой Азии. Первый учёный, имя которого до нас дошло, был иониец — Фалес из Милета; отец медицины Гиппократ был из Коса, тоже в Малой Азии; Демокрит из Абдер, Архимед из Сиракуз, Аполлоний из Перги — все они жили на периферии греческого мира, центром которого стали Афины. Первые «философы», строившие системы мироздания, — Анаксимандр, Пифагор, Зенон — тоже не были афиняне. Ирония истории была в том, что век Перикла был веком расцвета искусства и политической жизни, но в то же время веком упадка объективного мышления. Уровень, достигнутый в то время греческим мышлением, можно видеть в дошедших до нас работах математика Евклида, историка Фукидида, врача Гиппократа — строго логичных, объективных, свободных от фантастических построений. «Идеи» Платона и «сущности» Аристотеля были отступлением от объективного изучения природы: в них и коренится великое заблуждение Средневековья, именуемое «схоластикой». Платон не внёс ничего оригинального в науку. Кто-то из его школы назвал правильные многогранники «платоновыми телами», но они были, как известно, открыты до него. Он ненавидел научный подход, и вряд ли случайно возник рассказ, как он скупал и уничтожал произведения Демокрита. О стиле его мышления говорит якобы найденное им «платоново число» — математический секрет, как сочетать родителей, чтобы получить наилучшее потомство. Платон был изобретатель мифов и политический прожектер. И, конечно, он был философ — не в смысле учёности вообще, как понимали это слово греки, а в специфическом смысле умозрительной философии, до настоящего времени процветающей на одноимённых факультетах.
«Идеи» Платона и «сущности» Аристотеля были отступлением от объективного изучения природы: в них и коренится великое заблуждение Средневековья, именуемое «схоластикой». Платон не внёс ничего оригинального в науку. Кто-то из его школы назвал правильные многогранники «платоновыми телами», но они были, как известно, открыты до него. Он ненавидел научный подход, и вряд ли случайно возник рассказ, как он скупал и уничтожал произведения Демокрита. О стиле его мышления говорит якобы найденное им «платоново число» — математический секрет, как сочетать родителей, чтобы получить наилучшее потомство. Платон был изобретатель мифов и политический прожектер. И, конечно, он был философ — не в смысле учёности вообще, как понимали это слово греки, а в специфическом смысле умозрительной философии, до настоящего времени процветающей на одноимённых факультетах. Представьте себе, что в наше время молодых людей просвещали бы схоластикой, занимавшей умы полтысячи лет назад, — спорами о предопределении, благодати и таинстве причастия. Кто знает, если наша культура будет деградировать дальше, наши потомки будут, может быть, заучивать сочинения Хайдеггера и Сартра! Но скорее всего они просто разучатся читать.
Представьте себе, что в наше время молодых людей просвещали бы схоластикой, занимавшей умы полтысячи лет назад, — спорами о предопределении, благодати и таинстве причастия. Кто знает, если наша культура будет деградировать дальше, наши потомки будут, может быть, заучивать сочинения Хайдеггера и Сартра! Но скорее всего они просто разучатся читать. В Европе было очень мало грамотных людей, и почти все они принадлежали к духовенству. Быть грамотным означало понимать латынь. Древних авторов читало лишь несколько монахов, если их читали вообще, потому что такое занятие считалось опасным для спасения души. Лишь около тысячного года начали ездить в завоеванную арабами Испанию, где можно было прочесть Аристотеля в арабских переводах. Это были поистине «Тёмные Века». Всё, что рассказывают о «цветущей средневековой культуре», относится уже к «Осени Средневековья», то есть к заре Возрождения. Идеализация Средних веков, даже в этом их позднем развитии, выражает лишь отчаяние наших нынешних мудрецов. Достаточно сказать, что к началу эпохи Возрождения уже перестали переписывать древние рукописи, а уцелевшие не умели хранить. И если мы теперь входим в «новое Средневековье», как думают некоторые философы, то мы по крайней мере знаем, что это значит.
В Европе было очень мало грамотных людей, и почти все они принадлежали к духовенству. Быть грамотным означало понимать латынь. Древних авторов читало лишь несколько монахов, если их читали вообще, потому что такое занятие считалось опасным для спасения души. Лишь около тысячного года начали ездить в завоеванную арабами Испанию, где можно было прочесть Аристотеля в арабских переводах. Это были поистине «Тёмные Века». Всё, что рассказывают о «цветущей средневековой культуре», относится уже к «Осени Средневековья», то есть к заре Возрождения. Идеализация Средних веков, даже в этом их позднем развитии, выражает лишь отчаяние наших нынешних мудрецов. Достаточно сказать, что к началу эпохи Возрождения уже перестали переписывать древние рукописи, а уцелевшие не умели хранить. И если мы теперь входим в «новое Средневековье», как думают некоторые философы, то мы по крайней мере знаем, что это значит.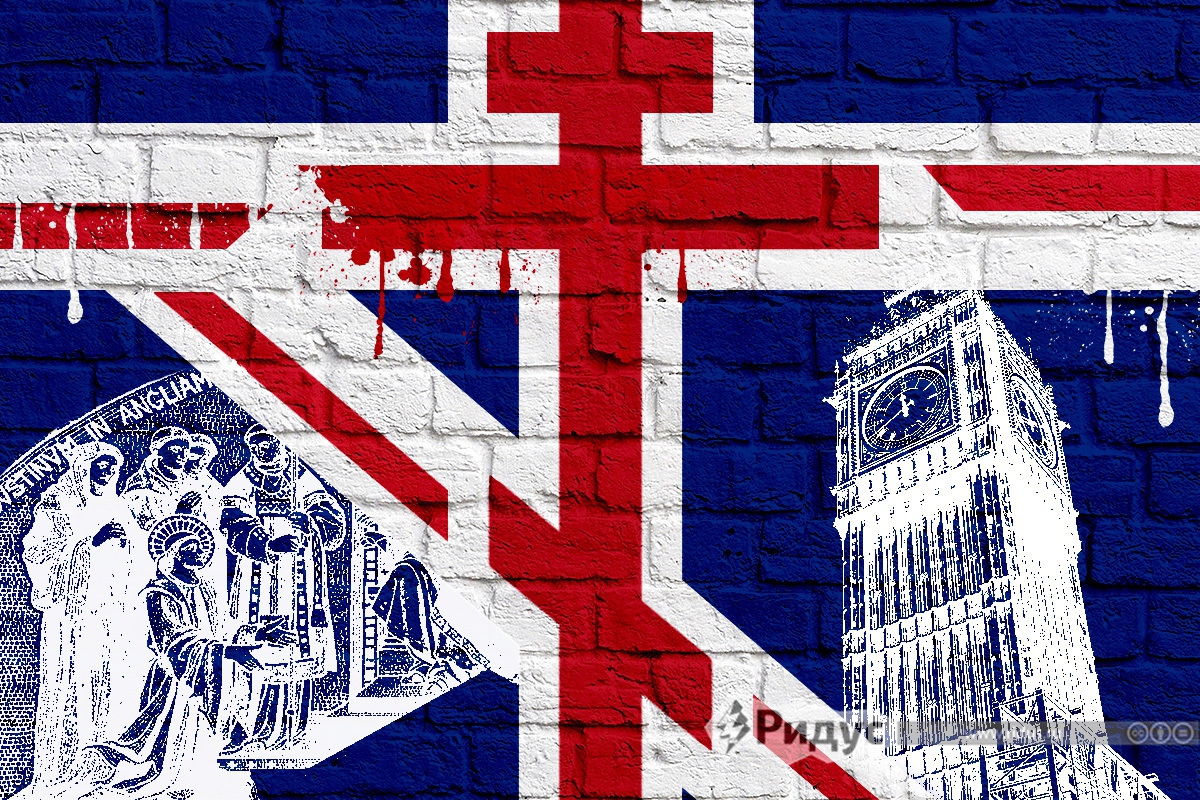 Спор между «капитализмом» и «социализмом» есть современная форма конфликта богатых и бедных; как мы видели, этот конфликт отчётливо прослеживается уже в первых документах, оставленных Шумером и Египтом. Но представления о «справедливом обществе» и протест против «социальной несправедливости», выраженные в доктрине социалистов, непосредственно коренятся в христианстве. Удалить из христианской религии эти её составные элементы было невозможно.
Спор между «капитализмом» и «социализмом» есть современная форма конфликта богатых и бедных; как мы видели, этот конфликт отчётливо прослеживается уже в первых документах, оставленных Шумером и Египтом. Но представления о «справедливом обществе» и протест против «социальной несправедливости», выраженные в доктрине социалистов, непосредственно коренятся в христианстве. Удалить из христианской религии эти её составные элементы было невозможно. Это был не просто «социализм» в понимании его критиков, а его наихудшая форма — «коммунизм». Церковники вынуждены были сохранить в отредактированных ими евангелиях резкие обличения собственности, приписываемые Христу: как мы видели, они пытались смягчить их, но, конечно, верующие уже знали их на память, так что их никак нельзя было опустить. Более того, хотя церковь стала церковью господ, она не могла порвать со своей нищей и униженной «паствой»: иначе эта народная масса перешла бы на сторону сектантов и еретиков. Поэтому церковь никогда — вплоть до настоящего времени — не одобряла собственности и всегда подчёркивала опасность стремления к богатству.
Это был не просто «социализм» в понимании его критиков, а его наихудшая форма — «коммунизм». Церковники вынуждены были сохранить в отредактированных ими евангелиях резкие обличения собственности, приписываемые Христу: как мы видели, они пытались смягчить их, но, конечно, верующие уже знали их на память, так что их никак нельзя было опустить. Более того, хотя церковь стала церковью господ, она не могла порвать со своей нищей и униженной «паствой»: иначе эта народная масса перешла бы на сторону сектантов и еретиков. Поэтому церковь никогда — вплоть до настоящего времени — не одобряла собственности и всегда подчёркивала опасность стремления к богатству.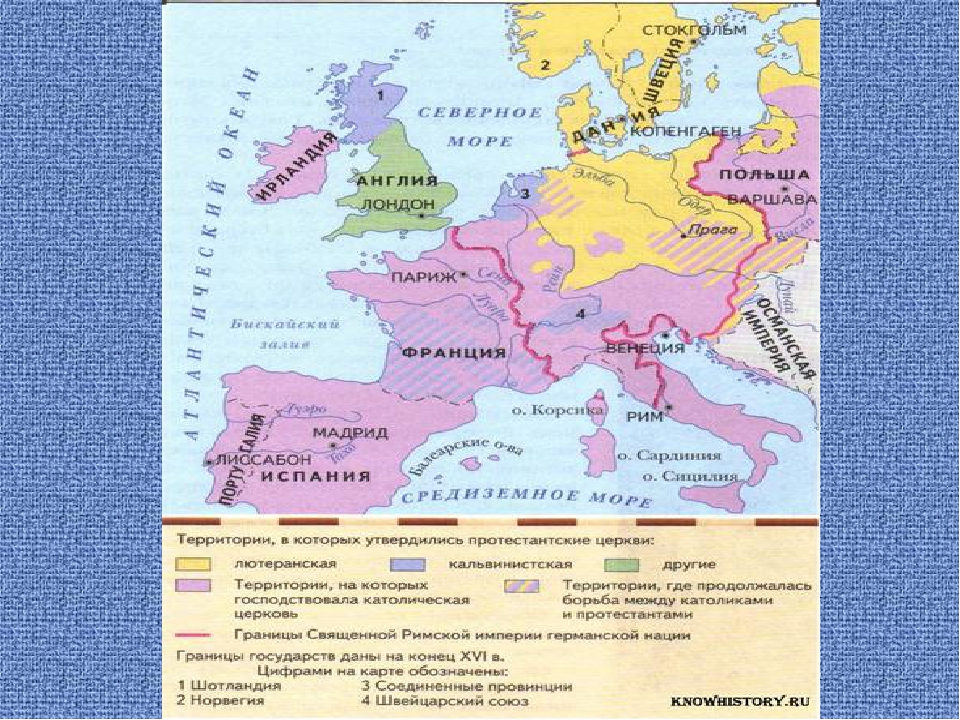 Нестяжание и целомудрие — наиболее важные добродетели христианина. Католическая церковь хотела бы даже навязать монашеский образ жизни всему духовенству, опасаясь, что священники, наряду с соблазнами плоти, привяжутся к собственности. Церковь может иметь собственность, поскольку это «достояние бедных», но отдельный священник должен быть неимущ. Другие христианские церкви близки к этой доктрине, по крайней мере в теории, но безбрачия священников не требуют.
Нестяжание и целомудрие — наиболее важные добродетели христианина. Католическая церковь хотела бы даже навязать монашеский образ жизни всему духовенству, опасаясь, что священники, наряду с соблазнами плоти, привяжутся к собственности. Церковь может иметь собственность, поскольку это «достояние бедных», но отдельный священник должен быть неимущ. Другие христианские церкви близки к этой доктрине, по крайней мере в теории, но безбрачия священников не требуют..jpg) Она дала им силу переносить унижение, но ценой их достоинства и свободы в этом мире.
Она дала им силу переносить унижение, но ценой их достоинства и свободы в этом мире. Как мы уже сказали, в этом заключается важная историческая заслуга этой религии. В действительности глобализация в Средние века ограничивалась «братьями во Христе» и не применялась к «неверным», но в новое время понятие «ближнего» значительно расширяется. В то же время сила этих «моральных правил» постепенно ослабевает, по мере того как религия, бывшая опорой воспитания, перестаёт приниматься всерьёз. Это очень важное явление, потому что без «моральных правил», унаследованных от христианства, не может существовать рыночная система, именуемая «капитализмом».
Как мы уже сказали, в этом заключается важная историческая заслуга этой религии. В действительности глобализация в Средние века ограничивалась «братьями во Христе» и не применялась к «неверным», но в новое время понятие «ближнего» значительно расширяется. В то же время сила этих «моральных правил» постепенно ослабевает, по мере того как религия, бывшая опорой воспитания, перестаёт приниматься всерьёз. Это очень важное явление, потому что без «моральных правил», унаследованных от христианства, не может существовать рыночная система, именуемая «капитализмом». Люди боятся их, поскольку они вызывают жадность; но они и не настолько дурны, чтобы не вызывать одобрения… В средневековой теории не было места для экономической деятельности, не связанной с моральной целью; если бы кто-нибудь предложил средневековому мыслителю основать науку об обществе на допущении, что стремление к экономической выгоде есть постоянная, измеримая сила, принимаемая, подобно другим силам природы, за неизбежный и самоочевидный исходный факт, то подобная точка зрения показалась бы ему столь же неразумной и безнравственной, как если бы пытались основать социальную философию на неограниченном действии таких человеческих свойств, как драчливость и половой инстинкт… Святой Антоний говорит, что богатства существуют для человека, а не человек для богатства… Поэтому на каждом шагу мы встречаем пределы, ограничения, предостережения, не позволяющие экономическим интересам вмешиваться в серьёзные дела. Человеку дозволено стремиться к такому благосостоянию, какое необходимо для жизни в его общественном положении.
Люди боятся их, поскольку они вызывают жадность; но они и не настолько дурны, чтобы не вызывать одобрения… В средневековой теории не было места для экономической деятельности, не связанной с моральной целью; если бы кто-нибудь предложил средневековому мыслителю основать науку об обществе на допущении, что стремление к экономической выгоде есть постоянная, измеримая сила, принимаемая, подобно другим силам природы, за неизбежный и самоочевидный исходный факт, то подобная точка зрения показалась бы ему столь же неразумной и безнравственной, как если бы пытались основать социальную философию на неограниченном действии таких человеческих свойств, как драчливость и половой инстинкт… Святой Антоний говорит, что богатства существуют для человека, а не человек для богатства… Поэтому на каждом шагу мы встречаем пределы, ограничения, предостережения, не позволяющие экономическим интересам вмешиваться в серьёзные дела. Человеку дозволено стремиться к такому благосостоянию, какое необходимо для жизни в его общественном положении.
 Оно должно было быть приобретено законным путём. Оно должно было иметь как можно больше владельцев. Оно должно было доставлять помощь бедным. Оно должно было, по возможности, быть в общем пользовании. Его собственники должны были быть готовы разделить его с нуждающимися, даже если те не находятся в бедственном состоянии».
Оно должно было быть приобретено законным путём. Оно должно было иметь как можно больше владельцев. Оно должно было доставлять помощь бедным. Оно должно было, по возможности, быть в общем пользовании. Его собственники должны были быть готовы разделить его с нуждающимися, даже если те не находятся в бедственном состоянии». Надзор над всем производством осуществляла королевская власть, часто вводившая предельные цены. Крестьяне вели натуральное хозяйство, отбывали барщину или платили сеньеру оброк; они почти не участвовали в денежном обращении. Подвижность населения была невелика, и города не имели такого значения, как в древности, или, тем более, в наши дни. Париж и Лондон насчитывали в Средние века 20–30 тысяч жителей.
Надзор над всем производством осуществляла королевская власть, часто вводившая предельные цены. Крестьяне вели натуральное хозяйство, отбывали барщину или платили сеньеру оброк; они почти не участвовали в денежном обращении. Подвижность населения была невелика, и города не имели такого значения, как в древности, или, тем более, в наши дни. Париж и Лондон насчитывали в Средние века 20–30 тысяч жителей. Но многое в этом прошлом мы можем понять.
Но многое в этом прошлом мы можем понять.


 .. КАК?’ — это вопрос, которые мучал меня добрую половину фильма. А вторую я не стала смотреть, так как этот вопрос домучил меня до того, чтобы полезть в википедию, а потом сюда.
.. КАК?’ — это вопрос, которые мучал меня добрую половину фильма. А вторую я не стала смотреть, так как этот вопрос домучил меня до того, чтобы полезть в википедию, а потом сюда. Столько всего выучил пока в трюме корабля сидел.
Столько всего выучил пока в трюме корабля сидел. Ну что, что, что это всё вообще?
Ну что, что, что это всё вообще? Показ бури в пустыне, это дешевый прием дать некоторую остроту сюжету.
Показ бури в пустыне, это дешевый прием дать некоторую остроту сюжету. О его национальной принадлежности спорят можно сказать все народы востока. Узбеки, турки, туркмены, азербайджанцы, персы и, конечно же, арабы.
О его национальной принадлежности спорят можно сказать все народы востока. Узбеки, турки, туркмены, азербайджанцы, персы и, конечно же, арабы. В этом омерзительном фильме же он признается, что все его открытия и трактовки ошибочны. Вообще весь сюжет фильма безнравственен и не уважителен к памяти величайшего ученого.
В этом омерзительном фильме же он признается, что все его открытия и трактовки ошибочны. Вообще весь сюжет фильма безнравственен и не уважителен к памяти величайшего ученого.
 ..
..


 И то — только в начале своего обучения. К концу — в учениках уже ходил, оказыца, сам Авиценна. Во всяком случае, фильм Филиппа Штельцля ‘Лекарь. Ученик Авиценны’ именно так трактует дела давно минувших дней, изображая ‘первую’ в истории человечества операцию. Такой подходит коробит и вызывает внутренний протест, а картина сразу же спускается с высот байопика в дешевую беллетристику. Впрочем, сам Авиценна, наверное, над этим посмеялся бы — говорят, у него было хорошее чувство юмора.
И то — только в начале своего обучения. К концу — в учениках уже ходил, оказыца, сам Авиценна. Во всяком случае, фильм Филиппа Штельцля ‘Лекарь. Ученик Авиценны’ именно так трактует дела давно минувших дней, изображая ‘первую’ в истории человечества операцию. Такой подходит коробит и вызывает внутренний протест, а картина сразу же спускается с высот байопика в дешевую беллетристику. Впрочем, сам Авиценна, наверное, над этим посмеялся бы — говорят, у него было хорошее чувство юмора. Особенно на Западе.
Особенно на Западе. Том Пейн, конечно, вполне симпатичен, но как-то мелковат для миссии Великого Ученика, которую ему определил режиссер. Даже маститый Бен Кингсли в роли Авиценны выглядит неубедительно, как-будто ‘в рукавах запутался’. А героиня Эммы Ригби, как и вся ‘любовная линия’, настолько выбивается из повествования, что выглядит чужеродной и… притянутой за уши.
Том Пейн, конечно, вполне симпатичен, но как-то мелковат для миссии Великого Ученика, которую ему определил режиссер. Даже маститый Бен Кингсли в роли Авиценны выглядит неубедительно, как-будто ‘в рукавах запутался’. А героиня Эммы Ригби, как и вся ‘любовная линия’, настолько выбивается из повествования, что выглядит чужеродной и… притянутой за уши. И если бы в эту историю не притянули смехотворный ‘западный след’, то есть, сделали бы ее более близкой к реальным событиям, ведь жизнь Авиценны достаточно хорошо изучена, то фильм мог бы получиться вполне достойным. А так мы имеем то, что ‘слепил’ художник, скажем так, без высокой социальной ответственности. Но за ‘дыхание эпохи’ и хороший визуальный ряд
И если бы в эту историю не притянули смехотворный ‘западный след’, то есть, сделали бы ее более близкой к реальным событиям, ведь жизнь Авиценны достаточно хорошо изучена, то фильм мог бы получиться вполне достойным. А так мы имеем то, что ‘слепил’ художник, скажем так, без высокой социальной ответственности. Но за ‘дыхание эпохи’ и хороший визуальный ряд Вот только этот современный взгляд европейцев на события в Англии и Ближнем Востоке в XI веке оставил двоякие чувства.
Вот только этот современный взгляд европейцев на события в Англии и Ближнем Востоке в XI веке оставил двоякие чувства. И все те испытания, которые ему приходится преодолевать (песчаные бури, запретная любовь, чума, обвинения в колдовстве и шарлатанстве) будут посланы судьбой, чтобы он добился своего, по законам жанра. В общем, типичное «возвышение героя», который будучи одарённым, сумел показать себя в незнакомой стране.
И все те испытания, которые ему приходится преодолевать (песчаные бури, запретная любовь, чума, обвинения в колдовстве и шарлатанстве) будут посланы судьбой, чтобы он добился своего, по законам жанра. В общем, типичное «возвышение героя», который будучи одарённым, сумел показать себя в незнакомой стране. В конце концов, именно Авиценна (которого, на мой взгляд, несправедливо отодвинули на второй план) показан в картине личностью, объединившей людей разной веры ради благого дела — науки и просвещения.
В конце концов, именно Авиценна (которого, на мой взгляд, несправедливо отодвинули на второй план) показан в картине личностью, объединившей людей разной веры ради благого дела — науки и просвещения.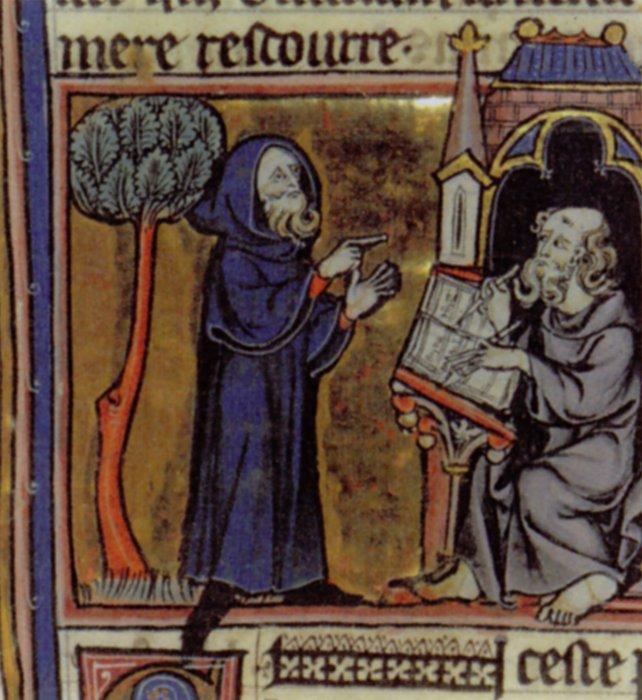
 Иначе не получилось бы донести до зрителей, главную идею фильма в духе европоцентризма, которую несколько утрированно можно обозначить так — англичане круче всех. «Да, Авиценна — великий врач, но не он, а именно его ученик-англичанин (никогда не существовавший в реальности) понял, что чуму вызывают мелкие существа, которых переносят крысы. Да, Авиценна — великий врач, но не он, а именно его ученик-англичанин первым в мире удалил аппендицит (а то, что впервые это было сделано лишь 700 лет спустя, то кто об этом знает, кроме студентов-медиков?) Да, Авиценна — великий врач, но он не был готов начинать всё заново в свете открытий своего гениального ученика-англичанина и принял яд (это при том, что причины его смерти от болезни в возрасте 57 лет хорошо известны)». Бред? Да, бред фантастический. Но это если хоть немного знать, как было на самом деле. А если изучать историю по кинематографическим «шедеврам», то всё может показаться вполне достоверным.
Иначе не получилось бы донести до зрителей, главную идею фильма в духе европоцентризма, которую несколько утрированно можно обозначить так — англичане круче всех. «Да, Авиценна — великий врач, но не он, а именно его ученик-англичанин (никогда не существовавший в реальности) понял, что чуму вызывают мелкие существа, которых переносят крысы. Да, Авиценна — великий врач, но не он, а именно его ученик-англичанин первым в мире удалил аппендицит (а то, что впервые это было сделано лишь 700 лет спустя, то кто об этом знает, кроме студентов-медиков?) Да, Авиценна — великий врач, но он не был готов начинать всё заново в свете открытий своего гениального ученика-англичанина и принял яд (это при том, что причины его смерти от болезни в возрасте 57 лет хорошо известны)». Бред? Да, бред фантастический. Но это если хоть немного знать, как было на самом деле. А если изучать историю по кинематографическим «шедеврам», то всё может показаться вполне достоверным. Хорошие — это первый учитель главного героя — цирюльник-брадобрей (само собой, англичанин), по совместительству мелкий шарлатан и евреи. Евреи, правда, один раз показаны не очень хорошо, когда собирались устроить побиение камнями жены, изменившей мужу, но в целом, выглядят очень умными и культурными (что, собственно не удивляет). А вот все мусульмане показаны, как тупые фанатики. Только непонятно, кто же тогда построил великолепный Исфахан, в котором так хорошо жилось тем же евреям, имевшим возможности обучаться медицине у Авиценны, который, открою великий секрет, тоже (о, ужас!) был мусульманином. И как мог править таким прекрасным городом вечно пьяный и, пардон, обдолбанный шах (на самом деле городом правил эмир)? Не удивительно, что город захватили злые и страшные Сельджуки.
Хорошие — это первый учитель главного героя — цирюльник-брадобрей (само собой, англичанин), по совместительству мелкий шарлатан и евреи. Евреи, правда, один раз показаны не очень хорошо, когда собирались устроить побиение камнями жены, изменившей мужу, но в целом, выглядят очень умными и культурными (что, собственно не удивляет). А вот все мусульмане показаны, как тупые фанатики. Только непонятно, кто же тогда построил великолепный Исфахан, в котором так хорошо жилось тем же евреям, имевшим возможности обучаться медицине у Авиценны, который, открою великий секрет, тоже (о, ужас!) был мусульманином. И как мог править таким прекрасным городом вечно пьяный и, пардон, обдолбанный шах (на самом деле городом правил эмир)? Не удивительно, что город захватили злые и страшные Сельджуки. А потому можно мимоходом оболгать их в угоду сюжету, ну, так по логике создателей фильма нужны же страшные враги? Не из евреев же их делать? Так нельзя, денег на новый фильм не дадут.
А потому можно мимоходом оболгать их в угоду сюжету, ну, так по логике создателей фильма нужны же страшные враги? Не из евреев же их делать? Так нельзя, денег на новый фильм не дадут.
 Здешние священнослужители не мудрствуя лукаво решают проблему: двоих девочек впридачу с небольшими пожитками умершей отдают на попечительство людям с дороги. Главного героя, мальчика, бросают на произвол судьбы. Мальчик, связывается со странствующим врачом, который действует вопреки христианской вере, и лечит людей нетрадиционными методами: целебными травами, хирургическими инструментами и девиц силой своего фаллоса. За что его местная церковь считают шарлатаном и некоторые даже колдуном. Мальчик освоился у своенравного и продвинутого для своего времени врачевателя, становится его учеником, и открывает в себе дар предугадывать скорую смерть у больных, прикоснувшись к ним. Идет время, юноша повзрослел. Со временем и его наставника настигла болезнь от которой он сам не знает лекарства, и которая ослепляет его. Случай, удача — и наши наставник и его ученик попадают в дом еврейских врачей, которые за нескромную плату делают операцию на глаза, от которой старый врачеватель смог видеть словно в младенчестве.
Здешние священнослужители не мудрствуя лукаво решают проблему: двоих девочек впридачу с небольшими пожитками умершей отдают на попечительство людям с дороги. Главного героя, мальчика, бросают на произвол судьбы. Мальчик, связывается со странствующим врачом, который действует вопреки христианской вере, и лечит людей нетрадиционными методами: целебными травами, хирургическими инструментами и девиц силой своего фаллоса. За что его местная церковь считают шарлатаном и некоторые даже колдуном. Мальчик освоился у своенравного и продвинутого для своего времени врачевателя, становится его учеником, и открывает в себе дар предугадывать скорую смерть у больных, прикоснувшись к ним. Идет время, юноша повзрослел. Со временем и его наставника настигла болезнь от которой он сам не знает лекарства, и которая ослепляет его. Случай, удача — и наши наставник и его ученик попадают в дом еврейских врачей, которые за нескромную плату делают операцию на глаза, от которой старый врачеватель смог видеть словно в младенчестве. В этом же доме герой узнает, что самый лучший врач в мире — это Авиценна. Решение принято, память о неизлечимой болезни матери не дает ему покоя, и юноша отправляется в по-настоящему долгий путь.
В этом же доме герой узнает, что самый лучший врач в мире — это Авиценна. Решение принято, память о неизлечимой болезни матери не дает ему покоя, и юноша отправляется в по-настоящему долгий путь.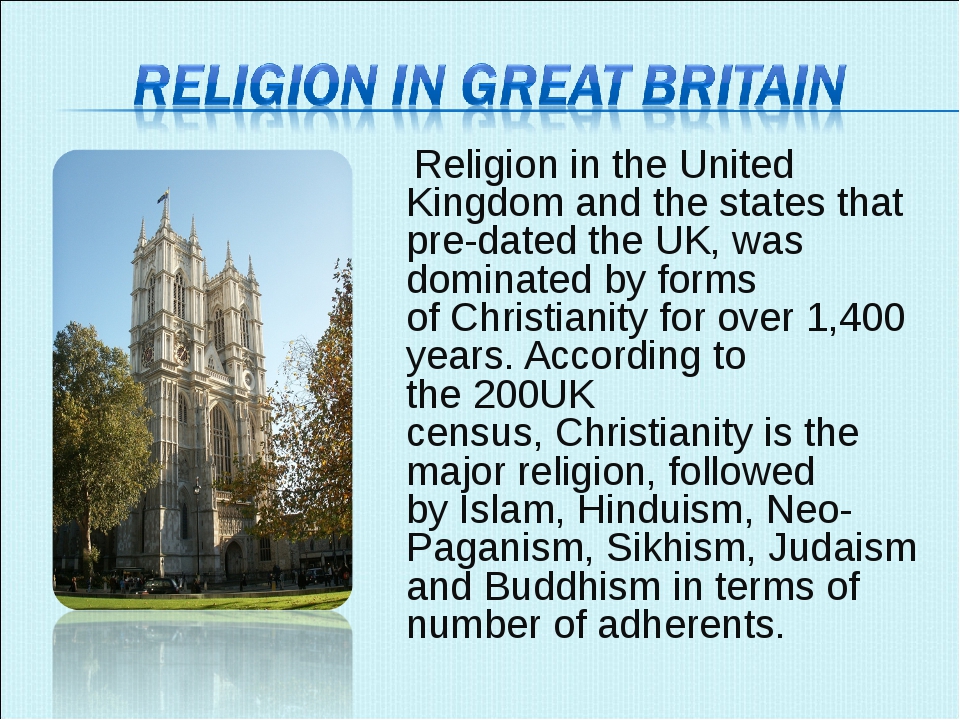 ..
.. (Ибн Сина)
(Ибн Сина)
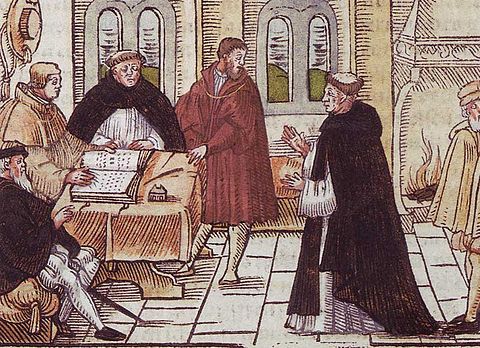 Очень импонирует образ главного героя, альтруистичного и инициативного юноши, готового на любые жертвы во имя прогресса. Образ Авиценны – бесподобен благодаря игре и внешности Бена Кингсли. Такие роли – определенно его амплуа, как мы можем судить из этого фильма и ряда других о Востоке незапамятных времен («Принц Персии: пески времени», «Последний легион» и др.). Помимо внешности, есть у Кингсли и еще более сильный козырь: появившаяся с годами мудрость в глазах, придающая особую харизму. Есть актеры, будто созданные для определенной роли. Я не хочу сказать, что Кингсли – яркий актер преимущественно одного жанра, вовсе нет, он убедителен в любом материале, за который ни берется, просто для такого типажа, на мой взгляд, трудно было бы найти кого-то гармоничнее него.
Очень импонирует образ главного героя, альтруистичного и инициативного юноши, готового на любые жертвы во имя прогресса. Образ Авиценны – бесподобен благодаря игре и внешности Бена Кингсли. Такие роли – определенно его амплуа, как мы можем судить из этого фильма и ряда других о Востоке незапамятных времен («Принц Персии: пески времени», «Последний легион» и др.). Помимо внешности, есть у Кингсли и еще более сильный козырь: появившаяся с годами мудрость в глазах, придающая особую харизму. Есть актеры, будто созданные для определенной роли. Я не хочу сказать, что Кингсли – яркий актер преимущественно одного жанра, вовсе нет, он убедителен в любом материале, за который ни берется, просто для такого типажа, на мой взгляд, трудно было бы найти кого-то гармоничнее него.