Верую шукшин: Читать «Верую !» — Шукшин Василий Макарович
Содержание
Читать «Верую !» — Шукшин Василий Макарович
Василий Макарович Шукшин
Верую!
По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая… Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать.
– Опять!.. Навалилась.
– О!.. Господи… Пузырь: туда же, куда и люди, – тоска, – издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска. – С чем тоска-то?
Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами… Стискивал зубы.
– Давай матерись. Полайся – она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.
Максим иногда пересиливал себя – не ругался. Хотел, чтоб его поняли.
– Не поймешь ведь.
– Почему же я не пойму? Объясни, пойму.
– Вот у тебя все есть – руки, ноги… и другие органы. Какого размера – это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога – ты чувствуешь, захотела есть – налаживаешь обед… Так?
Заболела нога – ты чувствуешь, захотела есть – налаживаешь обед… Так?
– Ну.
Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели.
– Но у человека есть также – душа! Вот она здесь – болит! – Максим показывал на грудь. – Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит.
– Больше нигде не болит?
– Слушай! – взвизгивал Максим. – Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу… Дура! – вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет – требуха. Да и сам он не верил в такую-то – в кусок мяса. Стало быть, все это – пустые слова. Чего и злить себя? – Спроси меня напоследок, кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нет. Или она поганая. С вами говорить – все равно что об стенку головой биться.
Или она поганая. С вами говорить – все равно что об стенку головой биться.
– Ой, трепло!
– Сгинь с глаз!
– А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?
– А что, по-твоему, душа-то – пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю.
– Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно… В кино ходют. А этот – нервничает, видите ли. Пузырь.
Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу.
Зима. Мороз. Село коптит в стылое небо серым дымом – люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег… Собака залает сдуру и замолкнет – мороз. Люди – по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних… Есть – выпивают, но и там веселого мало.
Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется – вот где сволочь-маета? И пластом, неподвижно лежать – тоже не хочется. И водку пить не хочется – не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал… Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел – оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это – гнусное предательство, что он – «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.
И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется – вот где сволочь-маета? И пластом, неподвижно лежать – тоже не хочется. И водку пить не хочется – не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал… Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел – оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это – гнусное предательство, что он – «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.
– Зачем же чертежи-то передал? – допытывался старшина. – И кому!!!
Этого Максим не знал, знал только, что это – «хуже Власова». И горько плакал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Верую! Шукшин читать, Верую! Шукшин читать бесплатно, Верую! Шукшин читать онлайн
Верую!
Верую! Василий Макарович Шукшин
По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая… Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать.
– Опять!.. Навалилась.
– О!.. Господи… Пузырь: туда же, куда и люди,– тоска,– издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска.С чего тоска-то?
Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами… Стискивал зубы.
– Давай матерись, Полайся – она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.
Максим иногда пересиливал себя – не ругался. Хотел, чтоб его поняли.
– Не поймешь ведь.
– Почему же я не пойму? Объясни, пойму.
– Вот у тебя все есть – руки, ноги… и другие органы. Какого размера – это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога – ты чувствуешь, захотела есть – налаживаешь обед… Так?
– Ну.
Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели.
– Но у человека есть также – душа! Вот она, здесь,– болит! – Максим показывал на грудь.– Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит.
– Больше нигде не болит?
– Слушай! – взвизгивал Максим.– Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу… Дура! – вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет – требуха. Да и сам он не верил в такую-то – в кусок мяса– Стало быть, все это – пустые слова. Чего и злить себя? – Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить – все равно, что об стенку головой биться.
Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет – требуха. Да и сам он не верил в такую-то – в кусок мяса– Стало быть, все это – пустые слова. Чего и злить себя? – Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить – все равно, что об стенку головой биться.
– Ой, трепло!
– Сгинь с глаз!
– А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?
– А что, по-твоему, душа-то – пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит, А я злюсь поэтому. Нервничаю.
– Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно… В кино ходют. А этот – нервничает, видите ли. Пузырь.
Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом – люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет – мороз. Люди-по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних… Есть – выпивают, но и там веселого мало.
Собака залает сдуру и замолкнет – мороз. Люди-по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних… Есть – выпивают, но и там веселого мало.
Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется – вот где сволочь – маята! И пластом, недвижно лежать – тоже не хочется. И водку пить не хочется – не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал… Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел – оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это – гнусное предательство, что он – «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.
Причем он хотел идти туда непременно босиком.
– Зачем же чертежи-то передал? – допытывался старшина. – И кому!!!
Этого Максим не знал, знал только, что это – «хуже Власова». И горько плакал.
В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.
«Ну и что? – сердито думал Максим. – Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын… А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих – свои такие же будут. А у тех – свои… И все? А зачем?»
Совсем тошно стало Максиму… Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот – поп. Самый натуральный поп – с волосьями. У попа что-то такое было с легкими – болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.
Максим пошел к Лапшиным.
Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях – клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.
– Мне столько не надо. Мне надо три хороших – жирных.
– Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам – каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел… а я их тебе приволоку двенадцать штук…
Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.
– Что? – спросил он.
– Душа болит,– сказал Максим.– Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?
– Спирту хочешь?
– Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?
Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой:
– Разбавляй по вкусу.
Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа – ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому – не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный – не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие – живые, трепетные нити – распутывать. Однако – Максим сразу это почувствовал – с попом очень интересно.
Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа – ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому – не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный – не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие – живые, трепетные нити – распутывать. Однако – Максим сразу это почувствовал – с попом очень интересно.
– Душа болит?
– Болит.
– Так.– Поп выпил и промакнул губы крахмальной скатертью, уголочком.Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай.– Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил:
– Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло – есть добро, нет зла – нет добра, Понимаешь меня?
– Ну, ну.
– Не понужай, ибо не запрег еще.– Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот – странно, далеко и безответственно. – Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея – борется со злом.
– Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея – борется со злом.
Илюха заснул за столом.
– Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.
Максим погасил о подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.
– Чего с легкими-то? – поинтересовался для вежливости.
– Болят,– кратко и неохотно пояснил поп.
– Барсучатина-то помогает?
– Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный…
– Ты что? – удивился Максим.
– Я просил не перебивать меня.
– Я насчет легких спросил…
– Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе – зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос… Но тогда – зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.
Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.
– В коммунизм, что ли?
– Что коммунизм?
– В коммунизм веришь?
– Мне не положено. Опять перебиваешь!
– Все. Больше не буду. Только ты это… понятней маленько говори. И не торопись.
– Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Выс-шую силу, которая все это затеяла на земле, Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта – победит. Иначе – для чего все? А? Где такая сила? – Поп вопросительно посмотрел на Максима.– Есть она?
Максим пожал плечами:
– Не знаю.
– Я тоже не знаю.
– Вот те раз!..
– Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это – океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость…– Поп выпил спирт, промакнул скатертью губы.– Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но – стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся – мы обречены.
Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это – океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость…– Поп выпил спирт, промакнул скатертью губы.– Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но – стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся – мы обречены.
– Ты прости меня… Можно я одно замечание сделаю?
– Валяй.
– Ты какой-то… интересный поп. Разве такие попы бывают?
– Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.
– Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?
– Я сказал – нет. Теперь я скажу – да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! – Поп выпил.Теперь я скажу, что бог – есть. Имя ему – Жизнь. В этого бога я верую. Это – суровый, могучий Бог, Он предлагает добро и зло вместе – это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро
Это – суровый, могучий Бог, Он предлагает добро и зло вместе – это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро
 » »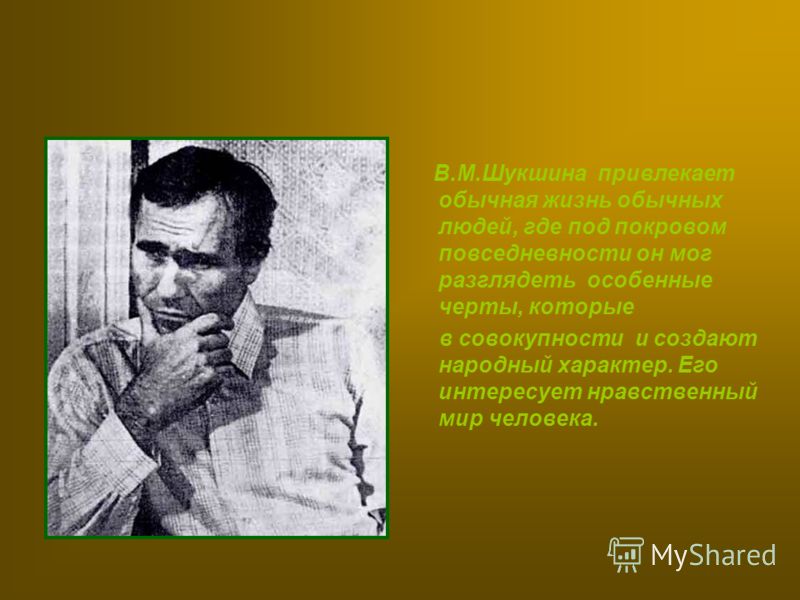 Никогда! ножом, вытащить его душу и держать перед собой, а она скажет только «потроха». Впрочем, он и сам не верил в такую душу, в какой-то кусок мяса. все было пустыми словами. Зачем ему так возбудиться? «Спросите меня, кого я больше всего на свете ненавижу, и я отвечу: людей без души. Или с гнилым. Говорить с женщинами так же полезно, как биться головой о стену!» Никогда! ножом, вытащить его душу и держать перед собой, а она скажет только «потроха». Впрочем, он и сам не верил в такую душу, в какой-то кусок мяса. все было пустыми словами. Зачем ему так возбудиться? «Спросите меня, кого я больше всего на свете ненавижу, и я отвечу: людей без души. Или с гнилым. Говорить с женщинами так же полезно, как биться головой о стену!» Собака без причины начинала лаять, а потом замолкала. Мороз над всем. Люди были в своих домах, где было тепло. Собака без причины начинала лаять, а потом замолкала. Мороз над всем. Люди были в своих домах, где было тепло. Максим признался, что это гнусное предательство, что он «научный предатель», и попросил отвезти его под конвоем в лагерь для военнопленных в Магадане. Более того, он настоял на том, чтобы пройти всю дорогу босиком. Максим признался, что это гнусное предательство, что он «научный предатель», и попросил отвезти его под конвоем в лагерь для военнопленных в Магадане. Более того, он настоял на том, чтобы пройти всю дорогу босиком. Лечением был барсучий жир, а барсуков заготовил Илья. У священника было много денег, и он часто пил с Ильей чистый спирт. Священник не пил ничего, кроме чистого спирта. Лечением был барсучий жир, а барсуков заготовил Илья. У священника было много денег, и он часто пил с Ильей чистый спирт. Священник не пил ничего, кроме чистого спирта.  Когда появилось зло, то и желание бороться с ним, т. е. появилось и добро. Другими словами, если есть зло, то есть и добро, если нет зла, нет и добра. Вы понимаете, что я имею в виду? Когда появилось зло, то и желание бороться с ним, т. е. появилось и добро. Другими словами, если есть зло, то есть и добро, если нет зла, нет и добра. Вы понимаете, что я имею в виду?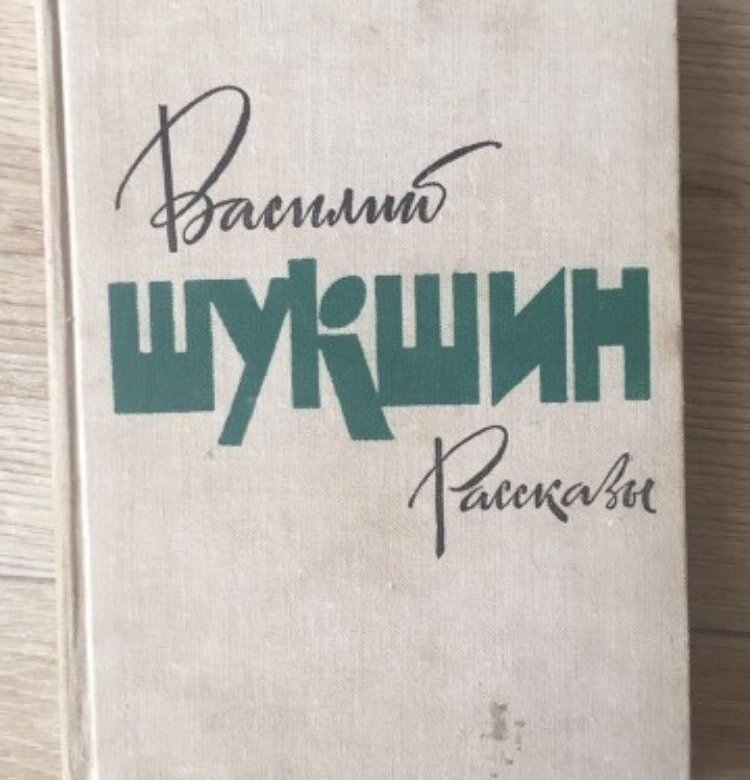 ..» ..»  . интересный тип священника. Неужели есть такие священники?» . интересный тип священника. Неужели есть такие священники?» Вы сидите здесь, вытаращив глаза, делая вид, что вам интересно то, что я говорю… Вы сидите здесь, вытаращив глаза, делая вид, что вам интересно то, что я говорю… Я не знаю, к чему все это ведет, но мне интересно бежать вместе со всеми, и, когда я могу, обгонять других… Ну и что, если есть зло? Если кто-то еще в этой великолепной гонке его ногу, чтобы сбить меня с ног, тогда я встану и разобью ему лицо. Никакой ерунды с «подставь другую щеку». Я не знаю, к чему все это ведет, но мне интересно бежать вместе со всеми, и, когда я могу, обгонять других… Ну и что, если есть зло? Если кто-то еще в этой великолепной гонке его ногу, чтобы сбить меня с ног, тогда я встану и разобью ему лицо. Никакой ерунды с «подставь другую щеку». «Я могу на это положиться. Естественный отбор пойдет своим чередом». «Я могу на это положиться. Естественный отбор пойдет своим чередом». Он прожил ровно столько, сколько нужно для его песни. Если бы песня была длиннее, она не заставляла бы ваше сердце так болеть. Длинных песен не бывает». Он прожил ровно столько, сколько нужно для его песни. Если бы песня была длиннее, она не заставляла бы ваше сердце так болеть. Длинных песен не бывает». .. Разгильдяй.» .. Разгильдяй.»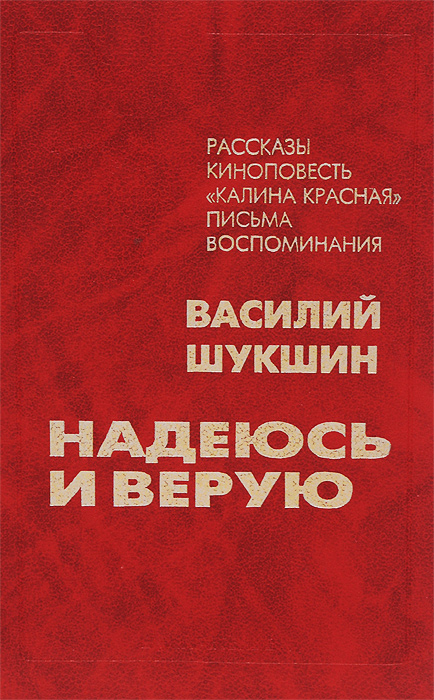  И если ему скажут, что он нужен, он попросит хорошего толстого волка — от него будет не так-то просто избавиться. И если ему скажут, что он нужен, он попросит хорошего толстого волка — от него будет не так-то просто избавиться.3 |
The Prodigal Steppe Son : STORIES FROM A SIBERIAN VILLAGE.
 Василий Шукшин, перевод Лауры Майкл и Джона Гивенса (Northern Illinois Univ. Press: 35 долларов за ткань; 16 долларов за бумагу, 255 стр.)
Василий Шукшин, перевод Лауры Майкл и Джона Гивенса (Northern Illinois Univ. Press: 35 долларов за ткань; 16 долларов за бумагу, 255 стр.)
В старые железные дни Советского Союза, со Сталиным, только что забальзамированным, и паранойей, густой, как автомобильный выхлоп на Арбате перед приемной комиссией Всесоюзного государственного института кинематографии, более известного как ВГИК, появился грубоватый красивый молодой человек. Киношкола была пристанищем московской интеллигенции и так называемой «золотой молодежи», изнеженных детей вождей революции. Всегда допускалось несколько претендентов из рабочего класса, но только как символический знак покорности крестьян.
Этот заявитель был другим. Только что из флота, он все еще был в военной форме. На вопрос об образовании он ответил с сибирским акцентом, что не успел прочитать «Войну и мир», потому что она слишком толстая. Он упивался тем, что сам называл своей «неандертальской отсталостью и грубостью». Хуже того, он был сыном человека, казненного как «враг народа». Но у него была смелость и несколько защитников, и так вписался Василий Шукшин в русскую культуру. По сути, он вошел как икона советской иронической культуры, которая процветала между пальцами ног государства.
Но у него была смелость и несколько защитников, и так вписался Василий Шукшин в русскую культуру. По сути, он вошел как икона советской иронической культуры, которая процветала между пальцами ног государства.
Ирония заключалась в том, что любое художественное выражение должно было сказать цензору одно и, возможно, прямо противоположное внимательному читателю или зрителю. Самый известный из шукшинских фильмов «Красная калина ягода», который он написал, снял и снял, якобы был об искуплении преступника его возвращением к честной сельской жизни. Однако на самом деле персонаж не может спрятаться от своей старой банды, которая выслеживает его и убивает. «Неотесанность» его антигероя сделала Шукшина настоящим героем для русских, готовых к честному голосу.
Все это может быть вводящим в заблуждение введением к его «Рассказам из сибирской деревни», потому что, имея столько причин писать из колодца гнева, он в основном отмечает эти 25 рассказов с юмором, терпимостью, остротой, любовью и прямотой. , блестящее описание Западной Сибири:
, блестящее описание Западной Сибири:
«Зимний пейзаж. Снаружи мороз. Деревня затмевала своим серым дымом чистое замерзшее небо — люди старались согреться. Если мимо проходила старуха с ведрами на коромысле, то даже слышно было сквозь стеклопакеты хруст плотно утрамбованного снега под ее валенками. . . . Люди остались бы дома, в тепле. . . . Они бы тоже выпили бутылку, если бы она была под рукой, но от выпивки веселее не становится.
Может быть, не веселее, но чаще креативнее. Механик решает построить вечный двигатель из велосипедных колес. Плотник покупает микроскоп и мечтает прославиться, убив всех микробов на Земле. Во всем остальном образцовый рабочий отказывается работать по субботам, чтобы попариться в идеальной бане, разжечь угли, взмахнуть, как Клеопатра, березовой веткой.
А иногда дела обстояли и повеселее, как в уморительном «Разрезании их до размера», в котором деревенщина допрашивает приезжих из города — людей с высокомерием, чтобы иметь докторскую степень и приезжающих на такси с чемоданом за чемоданом — и сводит их своей сумасшедшей смесью науки и инсинуаций к заикающейся ярости. Справедливое отношение к посторонним. Однако в деревне царит принцип «живи и дай жить другим». Мужчины бушуют, а жены бьют их кочергами и деревянными ложками. Когда пожилая женщина доносит на мужчину как на вора, суд принимает во внимание, что она его свекровь, и мужчина добивается своего личного триумфа над властью, отправляя прокурора в дикую поездку на грузовике без рук. руль.
Справедливое отношение к посторонним. Однако в деревне царит принцип «живи и дай жить другим». Мужчины бушуют, а жены бьют их кочергами и деревянными ложками. Когда пожилая женщина доносит на мужчину как на вора, суд принимает во внимание, что она его свекровь, и мужчина добивается своего личного триумфа над властью, отправляя прокурора в дикую поездку на грузовике без рук. руль.
Конечно, мы знаем, что отец Шукшина не одержал такой победы. 1930-е годы были временем советской коллективизации, когда зажиточных крестьян переквалифицировали в «врагов народа», а шепот заменял суд. Так что «Из детских лет Ивана Попова», один из последних разделов сборника, отличается от остальных. «Попов» — фамилия семьи матери Шукшина, которую она приколола к нему, чтобы избавить его от грубого обращения с детьми «классовых врагов». «В чем они обвинили моего отца, я действительно не знаю. . . . Как бы то ни было, отца нашего больше не стало», — пишет Шукшин. Здесь и резкость, и своенравие памяти, а не вымысел вымысла, и окрашенные настолько сдерживаемой яростью, что мы снова видим грубого деревенского мальчишку, ступившего перед приемной комиссией ВГИКа.
